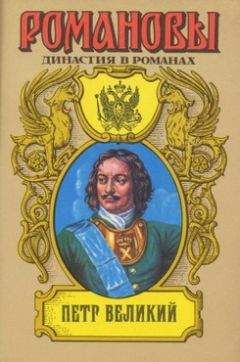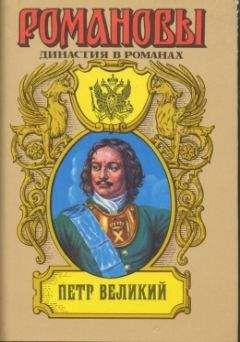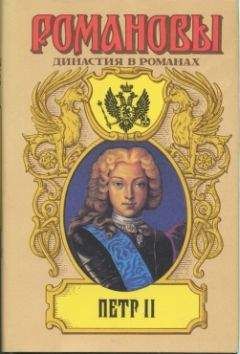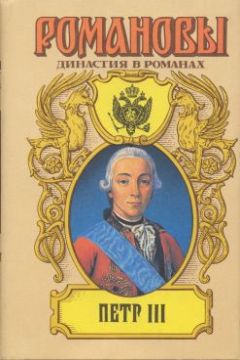А. Сахаров (редактор) - Екатерина I
– Какая такая показалась тебе околёсная в словах-то моих?
– Начала было, что княгиня сватает с кем-то… в мужья кого-то прочит… не досказала – за Сапегу принялась… С него перескочила на Лизавету Петровну. Там ещё на Дуньку на какую-то! Что же мне до них за дело? И что за дело тебе во всём в этом? Я только вижу, что ты просто насмехаешься надо мной: зазвала по делу, а врёшь пустяки одни, никуда не гожие… Чего же мне дальше слушать? Ругательства твои, что ли?
– Дал бы всё высказать, так не то бы было… Понял бы ты; что я в самом деле имею нужду в твоём содействии и что Аграфена – человек опасный…
– Ну, ладно, довольно дурачества… пусти, пожалуйста. Поздно ведь, а мне утром дела есть немало… А Алёшку – коли не дашь ты ему здесь проспать под столом – пошли со своим человеком; пусть отвезёт домой, если его саней здесь нет. А то – говорил он – сани за ним приедут. Может, уж и приехали.
Авдотья Ивановна махнула рукой с неудовольствием, но ничего не сказала; а Павел Иванович поспешил уйти, видимо, не владея собой от злости.
Когда он ушёл, Чернышёва вошла в столовую, и первый предмет, поразивший её взор, привёл её в невольный трепет: Макаров сидел и смотрел внимательно и сосредоточенно прямо на неё.
– Ты слышал? – нашлась Чернышиха.
– Как же… всё… Одного не понимаю: почему ты, Авдотья Ивановна, меня презираешь и ненавидишь, а этого вьюна ценишь настолько, что доверяешь ему вполне именно то дело, которое он больше всех постарается не допустить до выполнения. Так дела не делают. И таких людей, как я, тебе бы не следовало так ценить, коли сам я пришёл и предлагаю дружбу и помощь.
Авдотья Ивановна была захвачена, можно сказать, впрасплох. И остаток стыда, в ней сохранившийся, и сознание промаха с горечью испытанной неудачи, и боязнь, что Ягужинский в самом деле теперь уже враг, и враг опасный, – расположили Чернышёву перейти в противоположную крайность. Она вызвала на лицо своё улыбку и дружеским голосом сказала Макарову:
– Значит, я ловко вела дело, если и тебя провела, Алексей Васильевич! Твой приход одновременно с Ягужинским поставил меня в очень трудное положение, и, чтобы прикрыть наши будущие отношения, я делала всё, чтобы убедить Ягужинского, что ты мне решительно нестерпим. Понятно, что часть злости его произошла именно из-за помехи, которую он признавал для себя в твоей особе. А я было думала, что ты меня понял, когда прикинулся охмелевшим для устранения всяких подозрений Павла… Нам с тобой только вдвоём, без свидетелей можно сговориться… Ты сам понимаешь… Вот теперь, благо Павел улизнул со злостью, нам уже никто помешать не может. Я только накажу: если твои сани приедут, чтобы не перебивали нашей беседы, а дали знать не входя сюда…
Авдотья Ивановна вышла и действительно дала приказ в этом роде. Возвратившись, она села подле гостя, перед которым опять поставила фляжку, что вызвало на его лице приятную улыбку.
– Теперь, – сказал он, – мы можем поговорить откровенно… Я тебя, поверь, знаю вдоль и поперёк и знаю, чего тебе желательно при старом псе Григорье. А насчёт Павла Иваныча отложи, друг мой Дунечка, всякое попечение. Он и сам ещё не сообразил, в каких тенётах запутан женитьбою на Гавриловне. Она на свой пай гнёт; тесть – к себе, и тёща не прочь помыкать такой клячей, как Павел. Подняться ему хочется; но других лазеек, окромя предательства старых друзей, и нет у него. Стало, полагаться тебе на него всё равно что петлю самой для себя завязывать да пробовать, как ловчее затягивается. Это уже разгадали прежние друзья и покончили с ним, обойдясь без его участия в совете. А совет, Дунечка, я тебе скажу, дело у нас хорошее. Твой нижайший слуга покамест докладцы из лапок в советике не выпускает и не выпустит; значит, волею-неволею, всех и держит в узде. К тебе, вишь, Алёшка Макаров поспел, побывавши у двух заклятых врагов: Толстому протоколец отвёз, а от него к светлейшему заехал да знать дал, что то-то и то-то готовится.
– А что же готовится? – не утерпела Авдотья Ивановна, дружески взглянув на Макарова, ни одного слова из речи которого она не пропустила. Она уже начала видеть в недавно презираемом Алёшке силу и потому решилась с ним сблизиться.
– Я и сама хотела с тобой договориться допряма, – продолжала Чернышёва, – чем я тебе, а ты мне полезны можем быть.
– Да я на всё готов и тебе вовремя всё узнаю, направлю дело и научу, как просить…
– И ты готов по первому моему спросу прямо делать и отвечать что укажу или спрошу?
– Готов.
– Сделаем опыт… Что тебя заставило к Меньшикову ехать прямо от Толстого?
– Открывать совет завтра… Так…
– Толстой думает прямо и предложение подать…
– Да…
– Невыгодное Сашке…
– Не совсем…
– Значит, ты и там и сям виляешь…
– Делать нечего, покуда.
– А этак, предавая и тех и других, ты не думаешь, что все от тебя отступятся?
– Догадаться им будет нелегко, и не теперь, разумеется, когда станут подозревать – узнать можно. Тогда примем меры. Ведь ни одного предложения нельзя внести в совет, обойдя меня; а как будем заносить в регистр для доклада, так и поймём, что и для чего. Вот светлейший: хоть я ему о затее Толстого и не сказал, а он и сам понял, продиктовал мне и сам подписал предложение: «Сенаторам, усердным к интересу её величества, для здешнего жительства, остаточные дворы раздать в Новгородской провинции да гаки в Лифляндах». Сомнительно, чтобы кто на это восстал? Государыня, разумеется, соизволит, тогда князь и даст кому знает… Разом и получится перевес на его стороне!
– А ты Григорья не забудь вставить в список… да доложи светлейшему, чтобы, в Ригу его посылая, полную мочь дали… тогда, к удовольствию его светлости, он всякую поноровку и будет чинить в своё время.
– Умница ты, Авдотья Ивановна… Как же не исполнить по твоему совету, коли тебе поноровить всё едино, что заставить себя поддерживать. Я тебя включу в перечень охотно, и столько поставлю, сколько требуется, а ты обо мне вспомяни при Самой…
– Сколько же ты поставишь?
– Сколько велишь… Дворов и не просите, а гаков, понеже в Риге Григорью Петровичу гаки больше с руки в аренду сдавать за хорошую оплату, – можно гаков от двадцати до двадцати пяти получить…
– А больше нельзя?
– Спервоначалу не советую… Тем паче в общий перечень. Урезывать будут непременно ведь. Двадцать пять запишу, ну, двадцать и дадут. А это по малости тысячи полторы с походцем в год сойдёт… и при неурожае…
– Смотри же, поставь… А я тебя попрошу назначить к воспитанию цесаревича Петра Алексеевича.
– Не назначат… Князь Остермана прочит, учёного… И куда нашему брату такую обузу на себя брать! Довольно с меня и в совете успевать да кабинет держать. За прочее благодарствую.
– Ну а Толстой как на Остермана глядит? – спросила Авдотья Ивановна.
– Тот ещё не думает о цесаревиче. Ближе: норовит с муженьком цесаревниным ладить… в нём опора у противников светлейшего… Им… норовя цесаревне, незачем прилаживаться к внучатам. Их следует, полагаю я, поудерживать подальше…
– Да Сама-то теперь к ним не такова… Стало быть, Толстой промахнулся, приставая к Голштинскому С ним не много дела поделаешь. У него своих немцев не оберёшься, и те немцы нашим хода не дадут ни за что. Нужно без немцев нашим стараться делать дело.
– Немцы нужны… Их не обойдёшь. А только своих дать немцев. Конечно, Остерман хоша тоже немец, да с тою разницей, что наш и в руках светлейшего будет только выполнять его приказы…
– А голштинские немцы потребуют у своего герцога каждый себе по местишку! И коли их герцогу дадут делами заправлять, как хочется Толстому, наших они ототрут дальше. Помни же, что тебе норовить следует скорее внучатам государыниным да незамужней цесаревне… а замужняя – отрезанный ломоть…
– А что же ты с девочкой-то поделаешь? Не много она, по ветрености своей, и понять-то может, а не только что сделать, – возражал Авдотье Ивановне Макаров. – Князь уж всё сообразил… Видит, что Бассевич только под свой ноготь норовит, он его холодно теперь и принимает. А ты, видно, думаешь только Сапегину руку держать? Смотри, не промахнись сама… Может он скоро и свихнуться…
– Я на него больших надежд не имею. Есть на примете ещё ухарь. И заслугу оказал памятную. И любим многими… и признателен… И на его руку гнёт княгиня Аграфена Волконская. А она баба зоркая и очертя голову не сунется.
– Кто же бы это такой был? – подхватил заинтересованный намёками Макаров.
– Вот как увижу в тебе полную искренность, тогда скажу. А теперь, покуда, поломай голову да попотей. Авось и сам усмотришь, коли ловок да находчив.
– А ты не пустую загадку загадываешь?
– Не загадку, а дело как есть подходящее.
– Ну, коли теперь не хочешь открыть… не настаиваю. Убедишься в моей правоте – без загадок будешь говорить. Поймёшь, что Алексей прямой человек и никогда и никого не подводил.