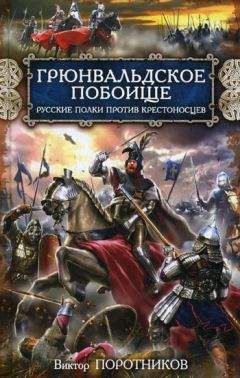Милий Езерский - Гракхи
В этот день он увиделся с Тиберием Гракхом на углу улицы Сыромятников и Сукновалов, решив, не без основания, что Тиберия нужно искать среди ремесленников.
Гракх кончал речь, когда подходил Флакк:
— Квириты, я слышу жалобы оптиматов, вижу ваше недовольство смещением трибуна Октавия. Вы говорите: трибун — лицо неприкосновенное, и я согласен с вами. Но если этот трибун действует против народа, то разве он — народный трибун? Народный трибун имеет право посадить в тюрьму консула, но ведь одного и другого избирает народ, а если они пользуются дарованной им властью во вред народа, то их должно лишить власти. Так же поступил и я…
— Ты позаботился о земледельцах, — крикнул кто-то, — а городской плебс не получил ничего!
— Городскому плебсу, квириты, земля не нужна. У вас иные требования. Я думал об этом. Я сокращу срок обязательной военной службы, допущу вас к участию в судах (вы будете обращаться для разрешения ваших споров к народу), чтобы правда и справедливость твердо установились в республике. А для этого, квириты, я должен быть уверен в вашей помощи.
— Поддержим! — послышались из толпы жидкие голоса, но уже без той восторженности, присущей южанам, которую вызывали первые выступления Гракха.
Фульвий подошел к Тиберию, тронул его за тогу:
— Пойдем, народ расходится, да и ты устал…
— Когда ты приехал? — обрадовался Гракх.
— Сегодня. И тотчас же решил повидаться с тобою. Тиберий понизил голос:
— Я не мог ничего сделать. Сенаторы требовали сместить тебя… Особенно этот Назика…
— Я не жалею, что вернулся в Рим, — говорил Флакк, идя рядом с Гракхом, — там, на Сицилии, делать нечего. Я послан был воевать, а я не мог — сам знаешь… Неудача в Риме, Минтурнах и Синуэссе поразила меня, как палица Геркулеса. Кто посмотрит на меня, скажет: вот человек, страдающий головокружением!
Тиберий искоса взглянул на него. На усталом лице Фульвия, блуждая, тускло блестели глаза, голова была опущена.
— И твои дела, Тиберий, плохи. Я понял это по возгласам толпы. Что для нее земельный закон? Она ожидала немедленных благ… И все же постарайся опереться на городской плебс, потому что деревенский уходит из Рима. Боюсь, как бы земельный закон не погубил тебя!
— Земледельцы должны придти на выборы…
— Не забывай, что оптиматы озлоблены! Гракх недоумевая взглянул на Флакка…
— Но всадники ненавидят их; они меня поддержат…
— Торгаши, спекулянты, — не люблю я их! Вспомни Платона — он говорил: «Грязные души этих людей направляют все свое честолюбие на приобретение денег». Он называет их жалкими рабами алчности. И ты надеешься на них?
В его возгласе послышалось презрение оптимата к купеческому сословию, все то пренебрежение, с которым нобиль говорил о публикане, как человеке, занимающем среднее положение между клиентом и вольноотпущенником.
Помолчав, он продолжал:
— Нужно выждать, пока все успокоится. Откажись от трибуната, поезжай делить земли, находись среди деревенского плебса, — и тебя не тронут. Но не оставайся в городе. Зачем подвергать свою жизнь опасности?
Тиберий отрицательно покачал головою:
— Ты не понимаешь, Марк, что вождь не должен бежать перед опасностью. Его место в рядах плебса.
— Это не бегство, а отступление…
— Народ истолкует, как бегство. Если плебс верит мне, я буду избран…
Нахмурившись, Фульвий молчал. Он видел, что друга трудно уговорить. «Впрочем, — подумал он, — от Фортуны никуда не убежишь: куда предначертано ему идти, туда он и пойдет».
Солнце клонилось к закату — багровые лучи золотили Капитолий, курию Гостилия, храм Весты, лежали пурпурными заплатами на каменных плитах форума, как только что пролитая кровь, и оба подумали, что это — дурное предзнаменование.
Остановились возле ростр. Молчали.
Гракх думал о хлебопашцах, которые получают земельные участки, о предстоящей борьбе с оптиматами, и тревога наполняла его сердце: «Поддержит ли меня плебс? Изберет ли народным трибуном? Кто победит?»
Мысли Флакка были иные: он думал о Риме — об этом огромном государстве, которое начало завоевывать мир и (он убежден был) покорит его; о судьбах республики, скрытых в мраке будущего, о порабощенных народах, о рабах, и горечь, накопившаяся в сердце, прорвалась внезапно возгласом:
— О, если б я знал, что Риму суждено погибнуть! Тогда бы мы разрушили его и основали новый Рим!
XXVI
В палатке Сципиона Эмилиана было тихо. Полководец сидел за столом и торопливо писал письмо: подергивание мускула на правой щеке изобличало сильное волнение.
«Сципион Эмилиан Африканский — Кассандре, супруге Лизимаха.
Эпистола моя повергнет тебя в большое горе, но что постановлено небожителями, то непреложно. Муж твой Лизимах пал жертвой сурового закона войны. Сегодня мы его похоронили. Напиши, думаешь ли остаться в благословенном богами Риме или возвратиться в Пергам? Как проводите время — ты и Лаодика? Не горюй о смерти мужа: человек не знает, где его ожидает смерть. Прощай».
Запечатав письмо, он приложил железный перстень к воску, скреплявшему нити, продетые в дощечки, и, оттиснув свое имя, кликнул воина, который отправлялся в Рим с донесениями, и передал ему эпистолу, а помощнику-легату приказал созвать на совещание Максима Эмилиана, Мария, Семпрония Азеллиона, Публия Рутилия Руфа, квесторов, легатов и военных трибунов.
Когда они собрались, Сципион Эмилиан рассказал об измене своего клиента.
— Позови Лизимаха, — сказал он рабу, стоявшему у входа в палатку.
Грек, ничего не подозревая, вошел с хитрым выражением на лице, но, увидев собравшихся военачальников, растерялся, побледнел; дрогнуло сердце — почувствовал страшное, неотвратимое, надвинувшееся на него. Ноги подкосились, он покачнулся.
Сципион встал:
— Лизимах, ты — изменник!
Лицо горбуна позеленело, исказилось — стало отвратительным.
— Господин мой, — пролепетал он (голос застрял в глотке), с усилием проглотив слюну, — я… я…
Язык не повиновался.
— Говори! — крикнул Сципион. — Что вынудило тебя пойти на преступление?
Лизимах собрался с силами.
— Я не виноват! — воскликнул он. — Меня оклеветали.
— Лжешь! Ты советовал Манцину сговориться с Югуртой, чтобы тот ударил мне в тыл… А плату от Ретогена — Ганнибаловы серебряные рудники — забыл?
Лизимах упал на колени.
— Пощади, — прохрипел он, стукнувшись лбом о землю. — Ради могущества Рима, ради твоих громких побед. Ради благородной супруги твоей Семпронии. Ради…
— Замолчи! Ты заслужил смерть: таков закон.
— Пощади! Возьми все мое богатство, все золото, все пергаменты, папирусы… Все — твое, только сохрани мне жизнь!
— Презренный!..
Сципион отвернулся от него, сел.
— Слово за вами, военачальники!
— Смерть! — хором закричали легаты, трибуны и квесторы, а Марий прибавил с жестоким выражением на лице:
— Отдай его мне: я заряжу им баллисту и брошу его в Нуманцию, вместо каменной глыбы.
Сципион нахмурился, мускул дрогнул на щеке:
— Зачем подвергать человека мучениям? Достаточно будет казни.
— Разве он — человек? — возразил Марий. — Распни его между Нуманцией и нашим лагерем для устрашения изменников, лазутчиков и злодеев.
Сципион молчал.
Лизимах подполз к нему на коленях и, воздевая к нему руки, шептал:
— Пощади… ради… Лаодики…
Сципион задрожал: афродитоподобным видением возникла перед ним юная гречанка, приблизилась вплотную, взглянула на него, отвела грустные глаза, опять посмотрела, и ему показалось, что она хочет просить за отца.
Стряхнув мечту, встал.
— Возьми обеих в собственность. Я дарю тебе их, дарю! — в отчаянии завопил грек, ухватившись за полу его тоги. — Будь великодушен, покажи, что ты выше всех, могущественнее и сильнее закона! О, умоляю тебя, великий римлянин, второй Александр Македонский!
— Встань.
— Пощады… великодушия!..
Продолжая стоять на коленях, горбун не отпускал тоги, точно в ней было спасение.
— Я знаю, — шептал он, привстав, — что Лаодика любит тебя… она не спит ночей… она мечтает быть твоей невольницей… она будет…
Сципион оттолкнул его, повернулся к Марию:
— Заковать изменника в цепи, зорко стеречь, — отвечаешь за него своей головою! Завтра утром доставить в преторий. А вам, военачальники, — обратился он к легатам, квесторам и трибунам, — построить легионы, объявить о казни преступника.
— А его рабов? — спросил Семпроний Азеллион.
— Бить нещадно плетьми, распять, приставить к крестам стражу.
Лизимах молчал. Он не мог говорить. Он весь дрожал — слышно было, как колотились зубы — и вдруг дикий вой вырвался у него из груди.