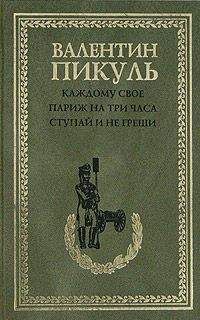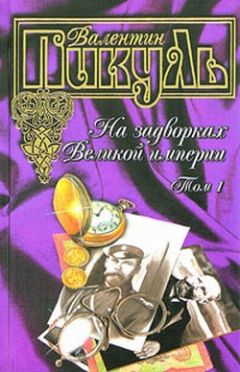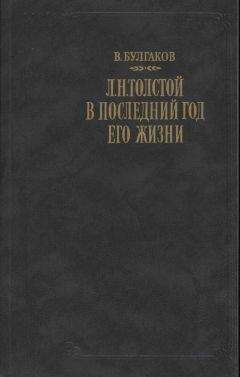Самуил Лурье - Изломанный аршин: трактат с примечаниями
А чего тут разбираться. Сперва за то, что якобинствовал. Девять лет подряд, — вот, Пушкин подтвердит.
А потом за то, что как получил по мозгам за идейную вылазку — дискредитацию псевдопатриотической драмы (спросите у СНОП), ну и по совокупности — за инакомыслие (правый декабристский центр! — картавит Уваров, хотя лучше бы ему помолчать), — так в ту же секунду струсил и прежним убеждениям изменил. — В пять дней сделался верноподданным! — вставляет остроумный, как всегда, Герцен. Общий хохот.
— Вот видите, — пожимает плечами воспитательница (тьфу! не воспитательница! Автор истории литературы). Дальше — больше, и в конце концов этот ваш Полевой повёл себя так, что грустно и неудобно рассказывать. Так опустился. Вот придут Белинский и Панаев — спросите у них.
Ладно. А пока они не явились — будьте любезны, вернёмся вместе на предыдущую страницу. К этой цитате из речи про Минина. Разве она не верноподданническая (ну и эпитетец)? И в речи 32 года есть подобный же пассаж, и в речи 29-го. И все они, заметьте, буквально проникнуты самым почтительным благочестием (ох, боюсь, это плеоназм). И, уж совсем между прочим, про Россию он постоянно говорит как про невероятно симпатичную страну — «страну надежды», прямо-таки обречённую на величие и счастье.
Как же вы утверждаете, что верноподданным Полевой сделался только когда его прихватила Контора, — в 34-м?
Кстати: пять дней — много это, по-вашему, или мало? Пушкин, как известно, сделался верноподданным минут за сорок — если не ошибаюсь, между четвёртым и пятым часом пополудни 8 сентября 1826 года, в Кремлёвском дворце. Часов в пять император, держа его за руку, вышел из кабинета и перед телекамерами объявил придворным:
— Господа, это Пушкин мой!
А вы на месте Пушкина, конечно, вскричали бы, как в отроческом сне: лжёшь, тиран! Ты ещё не заполучил автора оды «Вольность»! пусти, пусти мне руку! Отмой сначала свою от волокон пеньки, задушившей тех пятерых!
Однако же с тех пор, г-н Герцен, вы и сами обзавелись кой-каким опытом. Разве вам не случилось разик-другой превратиться в верноподданного хоть ненадолго? Ну и сколько же времени занимает переход? Хотите — угадаю: пока бежит абзац, — не правда ли? Вот как этот, — он же вашего пера?
— С тех пор как Россия в лице великого Петра совещалась с Лейбницем о своем просвещении, с тех пор как она Царю передала дело своего воспитания, — правительство, подобно солнцу, ниспослало лучи света тому великому народу, которому только недоставало просвещения, чтоб сделаться первым народом в мире…
Это, если помните, 37 год, речь при открытии библиотеки в Вятке. Отчётливо слышу, как вы её произносите, вижу ваше серьёзное, розовое лицо. Помилуйте, никаких претензий, всё так понятно: молодость проходит, провинциальная скука душит, поломанную карьеру надо скорей, скорей починить. Да и в абзаце-то — практически ничего, кроме правды. Вот разве что образ солнца как будто не совсем прямо из души, — а впрочем, кто знает?
Будь это солнечное правительство поумней… Ведь не лицемерили же вы, когда, опять (и без малейшей вины) попав под раздачу, клялись исправиться навсегда, если наказание смягчат? О, не разубеждайте: 8 декабря 1840 года вы были верноподданным неподдельным — и даже могли бы — по крайней мере, искренне желали — таковым остаться:
«Государь милосерд и к преступным, я верую в Его милосердие — и умоляю Его перевести в Москву, повергните к стопам Его последнюю просьбу мою — и целая жизнь моя будет доказательством, достоин ли я этой милости…»
Они вас проиграли — так им и надо. Но, получается, вы в курсе, что пять дней на политическую метаморфозу — вовсе не нижний предел. И что это не смешно.
А смешно — что такая метаморфоза, именно эта, Николаю Полевому была не нужна. И даже была для него невозможна. Его нельзя было принудить к лояльности, ни взяв на испуг, ни подкупив. По самой простой причине: он был лоялен.
§ 14. Нечто об искре и пламени. О призраках
О похождениях графа С***
По здравому-то синтаксису, культ личности — такая же идиома новояза, как, допустим, головокружение от успехов или детская болезнь левизны. Ничего человеческого не означает. Производственное междометие, не более того. Просто чтобы зря не шевелить указательным. Впервые введённое в местный гос. оборот, равнялось всего лишь команде «Оправиться!» — правда, несколько неожиданной после очередного «Товсь!» и, значит, вместо очередного «Пли!».
Ан нет. Здесь в сжатом (наподобие кукиша) виде содержится (и прячется в потайной карман) довольно грубая морально-политическая максима. Типа: подлость — дочь глупости, но т-с-с, в смысле — цыц.
Все эти термины — такие смутные. Скажем, когда Пушкин в 1831-м через несколько минут после случайной, на улице, встречи с царём говорил фрейлине Смирновой: до сих пор не опомнюсь — чёрт возьми, почувствовал подлость во всех жилах, — то ли самое имел он в виду, что и Карамзин, в 1797-м утверждавший: нация, изнасилованная тираном, не заслуживает сочувствия; пример — императорский Рим: Он стоил лютых бед несчастья своего, Терпя, чего терпеть без подлости не можно?
Поэтому ещё раз: причина Большого террора, как и малого, — прочерк, а причина всенародной (прошу прощения у людей с известным дефектом речи) терроротерпимости — сказано же: обман зрения; организаторам, исполнителям и жертвам всю дорогу мерещится, что заказчик — просто душка.
Громче — рыча и рыдая — сводным хором номенклатуры, прокуратуры, госбезопасности, образованщины, трудящихся — всем составом уцелевших соучастников: Мы так Вам верили, товарищ Сталин, Как, может быть, не верили себе!
Бедные. Ну как их не пожалеть, господин Карамзин? Где тут подлость? Одна лишь простота плюс эстетика с толикой эротики. Диктатор им что-то такое задвинул (наверное, как у Оруэлла: типа что зло — это добро), а они возьми и переверни свою т. н. совесть, — исключительно ради него. Будучи ослеплены его умом и красотой.
Однако некоторые компетентные лица (Иван IV, Эдуард Багрицкий) настаивают, что настоящий террор ни в каких этих нежностях не нуждается. Является ли тиран гением, красавцем, святым — не твоя, навоз истории, печаль. Твоя печаль — быть наготове. Чтобы как только скажут: солги, — солгать; скажут: убей, — убить. Главное — не тормози: не солжёшь вовремя, не убьёшь — убьют, вот в этом не сомневайся.
Мы, значит, вправе предположить, что террор работает (еще раз пардон за фонетику) на чистом культе террора. Остальное — художественная самодеятельность образованщины. А ей любой самый главный, будь он даже не тиран, всё равно, — Лучший-из-людей. И она ублажает его по рутинному ритуалу, описанному Н. В. Гоголем в «Игроках»:
«(Все приступают к нему, схватывают его за руки и ноги, качают, припевая на известный припев известную песню):
Мы тебя любим сердечно,
Будь ты начальник наш вечно!
Наши зажёг ты сердца,
Мы в тебе видим отца!
Глов (с поднятой рюмкой). Ура!
Все. Ура! (Становят его на землю. Глов хлопнул рюмку об пол, все разбивают тоже свои рюмки, кто о каблук своего сапога, кто о пол.)»
Навряд ли кого-либо удивит, что культ Николая I основал Ф. В. Булгарин. Лично. В минуту, исключительно злую для него: когда в Неве между нынешним Дворцовым мостом и бывшим Лейтенанта Шмидта зимовала подо льдом огромная стая мертвецов, а по улицам Петербурга маршировали группы захвата.
Ритм тогдашнего озноба и тембр ветра аллитерирован Музой мести и печали. Описывая весенне-летнюю кампанию 49 года против космополитов, она продиктовала поэту Н. А. Некрасову:
…И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.
Поэту в припоминаемом декабре стукнуло как раз четыре ровно, и в далеком уезде он катался на санках с горки, специально насыпанной под мамашиными окнами.
Не предчувствуя, что скоро попадёт в литературный процесс, где чужое горе будет его колебать буквально как своё:
Крепко в душу запавшее слово
Также здесь услыхал я впервой:
«Привезли из Москвы Полевого…»
Возвращаясь в тот вечер домой,
Думал я невесёлые думы,
И за труд неохотно я сел.
Тучи на небе были угрюмы.
Ветер что-то насмешливо пел.
Напевал он тогда, без сомненья:
«Не такие ещё поощренья
Встретишь ты на пути роковом»,
Но не понял я песенки спросту,
У Цепного бессмертного мосту
Мне её пояснили потом…
Нет, опять не сходится: весной 34-го Некрасов сдавал экзамены — из четвёртого класса в пятый; в Ярославле, в тамошней гимназии; сдал не блестяще, так что про неохоту к труду — стих правдивый; но всё остальное-то, значит?.. Молчу, молчу: вон уже спешит ко мне в траурном сарафане одноглазая СНОН[25] с Теорией Лирического Героя под мышкой. Согласен, для вдохновения порядок фактов — тьфу; важно, что они вообще имели место: впоследствии-то сбежал в Петербург? — сбежал; бомжевал там? — ещё как; а кто его спас и, утопающего в грязи, за шиворот втащил в литературу, кто первый сказал (и напечатал), что он поэт, настоящий поэт? — или, может быть, вы думаете — Белинский? То-то. Отчего же задним числом и не посострадать давно погибшему благодетелю. Это только углубит образ лирического героя.