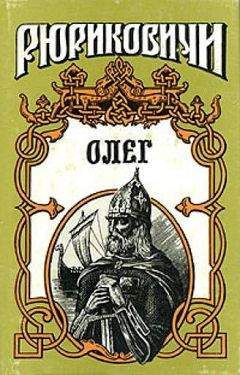Елена Раскина - Первая императрица России. Екатерина Прекрасная
– Наше положение не позволяет нам ответить на оскорбления Вашего Величества, как подобает офицеру и дворянину отвечать на оскорбления равного! – сквозь зубы процедил Йохан.
– Замолчи, Крузе, ты мелкий деревенский рыцарь и скверный офицер, не тебе говорить языком чести! – заверещал король шведов. – Бери пример с Хольмстрема: он сознает всю низость своего богомерзкого преступления и молчит!
– Ваше Величество, вы хоть сами изволили понять собственные слова? – дерзко вмешался Хольмстрем, которому тоже изрядно надоело слушать истерические выкрики когда-то обожаемого, а теперь жалкого вождя. – В чем это состоит мое помянутое богомерзкое преступление? Все три дня сражения под Станилешти я провел на передовых турецких батареях с подзорной трубой в руке. Как только я замечал где знакомую долговязую фигуру Бон-Бом-Дира Петьки Михайлова… то есть, виноват, вашего царственного брата Петра Московского, сразу указывал на нее турецким топчиям![70] Даже подходящую фразу по-турецки выучил: «Дели’нин Петро! Вур ону!»[71] А они только скалились в ответ и палили куда угодно, но не в него. Откуда мне было знать, что великий визирь приказал своим пушкарям не стрелять в московского царя? Он тогда думал взять его живым для триумфа в Истанбуле, а потом, надо полагать, передумал…
– Замолчи, Хольмстрем!! Ты должен был стрелять сам и убить Петра! – срывающимся голосом выкрикнул король.
– Стрелял я, – мрачно признался Йохан. – Когда решалась судьба сражения, в день двадцатого июля, я пошел на приступ лагеря московитов с храбрыми султанскими янычарами. Как только мы ворвались за ретраншемент, над головами дерущихся я увидел царя Петра. Он скакал куда-то на рослом вороном коне. Я выстрелил в него, но мое ружье дало осечку. Тогда я вырвал другое из рук раненого московита и выстрелил вновь. Увы, Петр был уже слишком далеко, и пуля не настигла его… Как видно, не было Божьей воли, чтобы я убил его в этот раз!
Карл XII стиснул виски руками и застонал, как от сильной боли.
– За одно это вас следовало бы лишить всех званий и наград, которыми я пожаловал вас, проклятые бездельники! – произнес он наконец немного спокойнее. – Но я не сделаю этого, и отнюдь не в память о ваших прошлых заслугах. Заслуг перед шведской короной у вас с этой минуты нет, словно вы и не сражались ни часа под славным голубым знаменем с желтым крестом! Я лишаю вас чести, майор Крузе и капитан Хольмстрем! Ни один добрый швед не протянет вам руки и не даст вам ни крова, ни хлеба, пока вы не исполните обещание, данное вами своему королю! Вы последуете за проклятым московским царем хоть в Польшу, хоть в Москву, хоть в его гнилую новую столицу на невских болотах, хоть в пекло ада! Вы выследите его и убьете его. Как только Петр умрет от вашей руки, вы снова станете шведами. Вам ясно?! Хорошо. Вон отсюда!!!
Выйдя из королевской палатки, Хольмстрем в сердцах плюнул на землю и забористо выругался:
– Пусть тысяча демонов на том свете разопрут утробу старой королеве Ульрике Элеоноре, выщенившей этого бешеного неудачника! Едва ли у шведов был худший король, или я – наследный принц Дании! Ну а если великий государь Всея Руси Бон-Бом-Дир Петька Михайлов рассчитывает, что я прощу ему то, что по его милости снова лишился всех заслуг перед Швецией, он жестоко заблуждается! Теперь я точно найду его и повыдергиваю ему длинные ноги из тощей задницы!!
Слова Ханса могли показаться почти шутливыми, но в глазах у него стояла самая настоящая, неподдельная лютая ненависть. Он решительно повернулся к Йохану:
– Надеюсь, старый боевой друг, ты не растратил свой пыл и не простил московиту Марты?
– Если честно, Ханс, немного растратил, – признался Йохан. – После того, как узнал, что Марта ночью пробралась к великому визирю и сумела уговорить его выпустить Петра из окружения по мирному договору… Но почему?! Я же видел, какое несчастное, страдающее лицо было у нее, когда она выходила со своим московитом из церкви в Яворове! Ведь он мучает ее, она несчастлива с ним! Зачем же она спасала его так самоотверженно?
– Так поступила бы всякая русская баба, Йохан, – с видом знатока ответил Хольмстрем. – Муж бьет ее смертным боем, унижает и не ставит в грош, а она прощает все и готова пожертвовать за него жизнью… Помнишь, я говорил тебе, что Московия имеет странное свойство: стоит пожить в ней некоторое время, и сам становишься московитом! Так вот, с твоей Мартой произошло то же самое, она стала московиткой, поздравляю…
Йохан горько усмехнулся. При всей невозможности представить милую, живую и исполненную собственного достоинства Марту в образе забитой и покорной русской бабы слова Ханса выглядели единственным правдоподобным объяснением.
– Тогда моей душе тем более не будет покоя, пока я не увижу кровь царя Петра на своих руках, – Йохан яростно скрипнул зубами. – Староват я, чтобы верить в сказки о заколдованных принцессах, служащих злому дракону, и благородных викингах, которые освобождают их, распоров драконье брюхо. Но, по крайней мере, я отомщу московскому дракону за изломанную душу Марты и ее загубленную жизнь! И за себя…
– Молодец, Йохан! Тогда – в путь, и русскому медведю не спастись от двух шведских волков! – Хольмстрем картинным жестом взялся за рукоять шпаги и со скрежетом обнажил ее лезвие на треть. – Надеюсь, твои друзья янычары найдут нам по паре резвых анатолийских коней? Вот и славно, я всегда говорил, что турки знают, что такое солдатская дружба! Но перво-наперво мы с тобой наведаемся в скромную резиденцию Его шведского Величества Карла в Бендерах, пока сам хозяин в отлучке. Раз уж наш маленький король лишил нас чести, ее не убудет, если мы по душам потолкуем с королевским казначеем и позаимствуем у него на наше предприятие сотен по пять золотых! Затратное это дело – цареубийство… Ты не находишь, Йохан?
* * *Поход был завершен. Страшно поредевшие российские полки переходили Днестр по понтонному мосту, без победы покидая Молдавию. Истощенные и оборванные, солдаты тем не менее пытались держаться молодцами, привычно ровняя ряды под поседевшими от солнца и порохового дыма полотнищами знамен. Начищенные штыки мерно раскачивались в такт согласного шага над шеренгами голов, одетых в потрепанные шляпы, мятые гренадерки, повязанных какой-то выцветшей тряпицей, а то и простоволосых. Спасенные от неприятеля пушки катили на руках, помогая последним, чудом уцелевшим лошадям.
«Славный народ – хоть куда, но крайне ослабленный голодом», – деловито записывал в походном дневнике пунктуальный немец, генерал Аллерт.
Молдаване Дмитрия Кантемира навсегда прощались с родиной. Немного их осталось с ним! Не найдя сил расстаться с нищей, порабощенной, но так отчаянно любимой землей, возвратились по своим селам крестьяне-ополченцы. Бог даст, минует лютая месть османов! Даже головорезы-янычары понимают: должен кто-то обрабатывать эту землю и платить акче[72] султану, чтобы он мог содержать их прожорливые орты. Избегая встречаться взглядом с низложенным Кантемиром и друг с другом, уехали поодиночке, ватагами и целыми сотнями удалые каралаши. Ведь хлеб изгнанника горек, а новому господарю Николе Маврокордато, милостью Дома Османов владетелю Молдовы, тоже понадобятся храбрые воины! Те, кто остался, собирали в ладони пригоршню сухой земли и прятали ее на сердце – на долгие годы это будет для них и их детей самой лучшей памятью…
Государь Петр Алексеевич в мрачном молчании наблюдал парад остатков своей армии с невысокого холма у переправы. За время этой несчастной кампании он почернел от солнца, осунулся лицом, иссох телом и, казалось, стал еще выше ростом. Сподвижники царя стояли поодаль невеселой запыленной кучкой и вполголоса переговаривались. В их глазах, устремленных на повелителя, впервые поселилось недоброе сомнение, а быть может, неверие и злоба.
Постаревший разом на десяток лет, осунувшийся и поседевший фельдмаршал Шереметев беззвучно шевелил губами. Старик то ли молился об оставленном в турецкой неволе сыне, то ли просил прощения у своих «ребятушек», которых не смог спасти, куда менее половины вывел из проклятого похода.
– Полно кручиниться, Борис Петрович! – Аникита Репнин положил руку на плечо старшему другу. – Бог милостив, возвернется Михайла Борисыч в славе и чести. Да и ты своей доблести воинской не уронил, ни на баталии, ни на негоциации в стане вражьем!
– Доблести, и верно, много, – хрипло отозвался старик. – Да доблесть без победы что соль без хлеба – глотку дерет! Михайлу, сына единого, сам в зев ко льву агарянскому засунул, своими руками!.. Сказывали в войске: хитер-де Михалка Шереметев-сын, лицеприятен, о своих лишь выгодах да преференциях думает. Ныне иное говорят: и герой он, и за всех нас муки претерпевает! Добился я своего: сын да отец, оба чести рода Шереметевых достойны… А каково ему, Михайлушке моему, в темнице у султана томиться будет, не подумал!