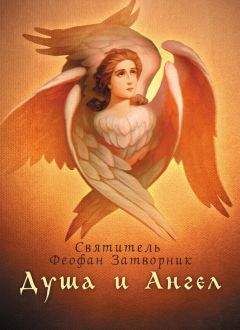Марина Кравцова - Легкая поступь железного века...
Александр молчал.
— Молчишь? Хорошо. Значит, есть, что скрывать. Запиши Степан, что повинился.
— Ну уж нет, — вскрикнул Саша. — Этого я не подпишу! Я ни в чем виновным себя ни признаю…
— Значит, помоги нам…
— …и ничего больше сказать вам не имею!
— Это последнее слово твое?
— Да.
— Но, думаю, что только на сегодня, — задумчиво проговорил Ушаков. — Что ж… Ты сам себе враг. Но время-то еще не истекло — подумай. Подпиши уж листы, сделай милость — нет там о том, что повинился. А там — посмотрим…
Когда Александра увели, Андрей Иванович еще долго смотрел в задумчивости на закрывшуюся за ним дверь. Шешковский притих за его спиной, не смея нарушать тайные думы начальства. А думы были вот о чем: сколько не приглядывался генерал к Вельяминову, не мог он заметить в нем ничего, что указывало бы на то, что он лжет. Нет, кое в чем он, конечно же, привирает, но в главном — нет. На это у Андрея Ивановича было особое чутье. А если так, тогда — плохо. Отпускать его теперь нельзя. А держать без вины — неприятности можно навлечь, все-таки бестужевский человечек. Значит, как угодно, а признания надо добиться, хоть какого, хоть в чем бы то ни было. В конце концов, быть того не может, чтобы, будучи на службе столь секретной, юноша не знал такого, о чем ему, Андрею Ивановичу послушать было бы весьма интересно. А там бы и впрямь отпустить можно. Или же… Ушаков вздохнул и обернулся, наконец, к Шешковскому:
— Степушка, ступай, распорядись там, чтобы с завтрашнего дня Вельяминова — на хлеб и воду. И — в другое помещение.
— Понял.
— И… вот что еще. Не давать ему спать.
Шешковский поклонился.
…Едва Александра втолкнули обратно в камеру, он, как не был взволнован и обескуражен, сразу же упал на свою лежанку и уснул. Но сон его оказался недолгим, его разбудили, снова подняли, куда-то повели… Он ничего не понимал. И вот перед ним двери другой камеры. Переступив ее порог, Александр поежился, так как сразу же дала о себе знать промозглая сырость, и вообще, ничего хорошего в этом переводе в другое помещение не было. Крошечная каменная клеть, сырая и темная, с ворохом соломы вместо кровати. Александр перекрестился, тяжело вздохнул и опустился на солому. Стоять у него не было сил. Но едва стали слипаться его тяжелые воспаленные веки, как резкий удар по щеке заставил его сильно вздрогнуть и открыть глаза. Перед ним стоял один из охранников, который повторял:
— Спать не велено, сударь!
Этого Александр никак не ожидал, только и смог переспросить:
— Как так не велено?! Кем?
— Его превосходительством.
«О Боже! — подумал молодой человек. — Что ж меня еще-то ждет?»
Эта ночь стала для него настоящей пыткой. Были минуты, когда Александру казалось, что сон, наваливающийся на него, особенно в часы раннего утра, преодолеет все, и он откидывался на солому, но его тут же рывком поднимали на ноги. Охранник, приставленный Ушаковым, отхлестал себе ладони о его щеки… Когда лязгнула дверь, Александр едва удержался, чтобы не застонать.
— К допросу!
«Как, опять?!»
Ноги не слушались и заплетались. Ему казалось, что он задыхается. И вот перед ним те же лица, только Ушаков еще мрачнее, чем был, когда они расстались, а его помощник имеет утомленный вид.
— Ну, подумал? — вопросил генерал. Жгучий взгляд Александра, полный ненависти, был весьма красноречивым ответом. И взгляд этот очень Андрея Ивановича обрадовал, он даже лицом просветлел.
«Эге! — провертелось у него в голове. — С одной ночи как… Да и ночи-то неполной. Скоро кидаться на меня станет. Да, все будет проще, нежели я думал. Хрупкий, изнеженный барчук, а туда же — политика, игры тайные. Ну, ничего…»
— Не смей молчать, когда я вопросы задаю! — прикрикнул он на Александра, как на нашкодившего ребенка. — Понял, что нужно Отечеству послужить?
Молчание.
— Так, значит? Не соизволите со мной словом перемолвиться? — генерал улыбнулся и философски протянул: — Да-а, вот ведь как бывает… Меня-то из бедности, из нищеты, можно сказать, вынули, одно и было, что имя дворянское, а к сему — именье — един двор крестьянский. А ты, вон, Вельяминов урожденный… А вот стоишь сейчас передо мной, и вся жизнь твоя от одного шевеления мизинца моего зависит.
— Не только, — прошептал Александр запекшимися губами. — Еще и от воли Божией…
И так сказано это было, — даром, что шепотом, — что вновь помрачнел Андрей Иванович.
«Ого! — подумалось, — а не поспешил ли я его в слабаки записывать…»
Но мысли сей никак нельзя выказывать!
— Не дрожи, — покровительственно бросил Ушаков, хотя Александр вовсе и не дрожал. — Я тебе зла не желаю. Напротив, сына роднее станешь… Переходи ко мне на службу. Я-то о будущем твоем получше, чем Бестужев твой, позабочусь. Тут карьера такая для тебя… Степан вон уже погрустнел, завидует. А за ночь сегодняшнюю не взыщи, больше сего не повторится. Подписывай — и свободен.
Степан уже поглаживал бумагу, которую должен был подписать Вельяминов.
— Больше ничего я подписывать не стану! — заявил Александр.
Андрей Иванович сдвинул брови и с минуту глядел на него, поглаживая подбородок. Потом медленно поднялся со своего кресла и подошел к юноше едва ли не вплотную.
— Вот как? А чем же, скажи на милость, наша служба хуже твоей? Или никого еще на дыбу не отправил? Так отправишь, — генерал-аншеф рассмеялся, — дело времени… Ты же, как и я, — на страже спокойствия государственного…
— Я, может, службу свою поначалу иначе представлял, — тихо сказал Александр, — но другой мне не нужно, тем паче — в Тайной канцелярии. Я дипломатом хотел быть…
— Теперь уж не будешь, — перебил Ушаков, возвращаясь на место. — Вот это я тебе обещаю. Ох, и дурень ты, даром, что в дипломаты метил. Ладно… Дадим тебе маленько передохнуть, да, Степан? Понял ли, что ты даже спать теперь не сможешь без моего на то соизволения? А у меня было раз так, что один вот такой же после нескольких ночек, подобных твоей сегодняшней, — нескольких, слышь! — прям на дыбе уснул. Вот. Так что, умнеть пора…
Когда Александра увели, Ушаков обернулся к Шешковскому.
— Ну, что скажешь, Степан Иванович?
— Да чего ж сказать, — с трудом сдерживая зевоту, пробормотал Шешковский, — сломается скоро… Построже бы с ним только, ваше превосходительство.
— Да трудненько, — пробормотал генерал, — все ведь тайком, и разрешения нет у меня ни на что. Как хорошо бы, кабы сам упрямиться прекратил, баран этакий… Э, ты-то бодрее гляди, раззевался!
— Меня-то за что мучаете, ваше превосходительство? — жалобно пробормотал Шешковский. — И домой не отпустили, и всю ночь за бумагами просидеть заставили.
— Но-но! Привыкай. Тебе еще не то предстоит — несколько ночей кряду спать не сможешь вот с этакими. Вот помру я, станешь начальником сего учреждения…
— Да что вы… Да куда ж мне…
— Именно — тебе. Это уж я знаю, предрекаю, людей я, голубчик, насквозь вижу. Ладно, ступай домой, сосни. Но к вечеру чтоб вновь у меня был! Тебе сегодня еще одна ночь бессонная предстоит. Да не тебе одному…
Александр надеяться уже перестал, а смириться с безысходностью не мог. Все в нем возмущалось и рвалось при мысли о чудовищной несправедливости, допущенной по отношению к нему. Он был уверен, что Бестужев не знает о его аресте, что ни он, никто другой не предпринимает ничего, чтобы вызволить его отсюда. А если бы Бестужев знал? Рискнул бы он ходатайствовать за своего сотрудника, обвиняемого вообще не пойми в чем?
Дни тянулись мучительно. Ушаков периодически вытягивал его на многочасовые допросы, становясь с каждым разом все грубее и настойчивее, доводя подследственного едва ли не обморока. Этим, впрочем, пока дело и оканчивалось, хотя каждый раз угрозы дыбы и кнута становились все красноречивее в устах грозного генерала. И постоянное ожидание мучений тоже изнуряло. Постепенно исчезли все «барские замашки» Александра, как издевательски выражался Ушаков. Можно было есть раз в день непропеченный кислый хлеб и пить мутную воду, можно было спать на гнилой соломе, и просыпаться, когда уже зуб на зуб не попадает от холода. Здесь Александр научился молиться, не так, как упрашивала его каждые утро и вечер нянюшка в детстве («скорее, скорее, отделаться б от нее побыстрей!»), а так, когда осознаешь, что Тот, к Которому ты сейчас обращаешься — есть твой, не главный даже, а единственный Источник спасения. И лишь с Ним можно говорить обо всем, что разрывает сердце…
Пробуждение среди ночи, в любое время, — в начале ее, в середине, или уже к рассвету, — давно стали для Александра привычными. Вот и сейчас он с трудом поднялся и его повели на допрос. Прошли знакомый коридор, и у молодого человека екнуло в груди. Путь их нынче лежал не в кабинет Ушакова.
«Господи! — взмолился Александр. — Ведь на пытку ж ведут! Помоги, дай силы… не выдержу я».