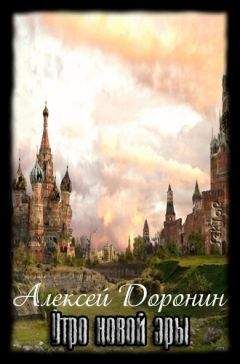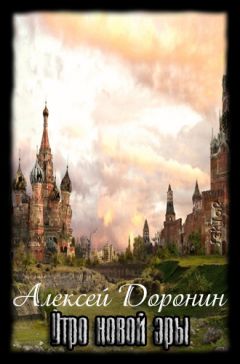Александр Доронин - Тени колоколов
— Свет нужен, больше света, — вслух произнес Никон, продолжая думать о своем.
Монашка метнулась к свече, но Никон остановил ее властным движением руки.
— Довольно, матушка! Ты мне и так помогла. Хорошо твое снадобье. Умны твои речи. Да благословит тебя Господь! Прощай покуда…
Он шагнул к двери, которую снаружи уже открывала игуменья. Может, подслушивала, старая карга? Но Никону уже было не до монахинь. Для него опять зажегся угасший было огонек нового пути, которым он шел с таким трудом. Следовало поспешить, пока он горит.
…Три месяца прошло с той памятной ночи. Часто вспоминал он пророческие речи ворожеи и находил в них много истины. Однажды не вытерпел, приехал в монастырь. Но ворожеи там не оказалось. И матушка-игуменья не могла сказать, куда она делась. Говорили монахини: собрала в платок свои пожитки, поклонилась сестрам до земли и ушла на все четыре стороны.
В одну из ночей приснился Патриарху сон: в холодном поту он сел на свое жесткое ложе. Увидел, как наяву, ту ворожею, которая говорила ему: «Микитушка, не забывай меня и детишек наших!». Вгляделся, а у нее— как у Авдотьи лицо, жены его прежней. А вдруг так и есть? Ведь лица-то монахини он не разглядел как следует…
До утра стоял на коленях у святых образов, плача и моля Бога.
* * *Федосья Прокопьевна Морозова в последнее время плохо спала. Тревожные сны, как змеи, высасывали сердце, туманили мозг. Утром вставала обессиленная и больная.
Сейчас проснулась среди ночи. Окна затянуты летним пасмурным туманом. Трещит сверчок в углу. Сверчок вдруг умолк, словно сам стал прислушиваться к чему-то. И наступила тишина. Долгая, тягучая, жутковатая. Будто лежишь в темном гробу заколоченная… Федосья Прокопьевна хотела девку Парашку кликнуть, но отчего-то не решилась, губ не разжала. И тут с улицы донесся тоскливый протяжный вой собаки. Ей вторила другая, третья. Как стая голодных волков. Мороз пробежал по спине боярыни.
— Тьфу, окаянные! Беду накличете… — Она знала, что собаки воют к покойнику. А поскольку супруг ее, Глеб Иванович, послан царем в самое гнездо Сатаны — в Малороссию, то вестей можно ждать всяких.
Она вскочила с мягкой постели, босая, простоволосая, кинулась в сени, подхватив по пути сафьяновые сапоги мужа. Поставила их у порога запертой на все засовы двери, носами к себе: так легче доброму человеку войти, размашисто перекрестилась двумя перстами, и вдруг сквозь щели двери сверкнул адский огонь и вслед за ним с треском ударил гром.
Не помнила боярыня, как очутилась в своей спаленке, как упала на колени перед киотом. Молнии освещали ее белую фигуру, гром заглушал слова творимой молитвы. Постепенно гроза утихла, ушла на запад. А с востока занимался рассвет. Ночь отступала.
Боярыня встала на ноги, собрала в косу рассыпанные по плечам волосы и пошла проверить сына. За дверью ее спаленки вдоль стены стояла широкая скамья. На ней, постелив старый тулуп, спала Параша. Сейчас, при свете занимающегося дня, хорошо были видны ее полные телеса: рубаха сползла с плеч, обнажая молочно-белые шары грудей, внизу задралась до самых крутых бедер и черного пушистого островка между ног. Жарка июльская ночь, жарки и сны девичьи. Хотела Федосья Прокопьевна хлопнуть по голым ляжкам, да передумала, увидев сложенные в блаженной улыбке полные алые губы Параши. «Хоть во сне счастье изведает», — благодушно подумала боярыня и пошла дальше, в Ванюшину опочивальню.
Мальчик крепко спал, разметавшись поперек своей широкой кровати. Одеяло — в ногах, подушки — на полу, Осторожно подняла подушки, перекрестила сына и вернулась, успокоенная, к себе.
Вторично проснулась от воркования голубей за окном. За карнизом и наличниками было множество их гнезд. Бархатные переливы птичьих голосов нравились Федосье Прокопьевне. Она и сама кормила и слугам приказывала заботиться о голубях. Вот они сейчас и расхваливают свою обитель, наслаждаясь теплым утром, чистым небом и пылающим солнцем. Боярыня подошла к окну и раскрыла створки. На нее пахнуло свежестью и ароматом ласкового июльского утра.
Кругом уже началась привычная жизнь: мычали коровы, конюх запрягал вороного и покрикивал на него строго: «Не балуй!». Баба несла воду на коромысле. Ведра-бадейки раскачивались в такт ее крупным плавным шагам. Где-то играл пастуший рожок. Звонко лаяла собачонка.
За спиной боярыни скрипнула дверь, пропуская Парашу с лоханью воды в одной руке и вышитым рушником — в другой.
— Что-то, барыня, ты раненько поднялась?
— А ты, глупая, забыла, какой сегодня день? Троица. Великий праздник. Помоги мне собраться, да в церковь пойдем… Что это ты вся чешешься, как шелудивая?
— Да комары искусали, ироды. Всю ночь меня жрали.
— Как тебя не жрать, спишь вся расхристанная.
— Жарко ведь, барыня… — плаксиво оправдывалась Параша.
— Спишь как дохлая. Ничего не чуешь и не слышишь. А ночью такая жуткая гроза была. И собаки выли.
— Собаки? Это плохо. К покойнику. — Девка усердно расчесывала длинные густые волосы хозяйки и почувствовала, как она вздрогнула. — Ой, батюшки! Что язык мой мелет. Прости, госпожа, ради Христа!
— Ладно, Параша, я не сержусь. Сама думаю всё о Глебе Иваныче, как бы с ним чего ни случилось.
— Да, в повозку он совсем больной садился, сам бледный, а по лицу пот ручьями течет.
— Ох, и не говори… Нельзя было ему никуда ездить. Да разве мог он Государя ослушаться. Одна надежда сейчас на Господа. Вот пойдем сейчас и помолимся. Готово? — Федосья Прокопьевна посмотрела на себя в зеркало: косы короной уложены, остается покрыть голову красивым покрывалом. Ни на улицу, ни тем более в церковь замужней женщине с непокрытыми волосами нельзя.
Когда, наконец, боярыня была обута и одета, Параша придирчиво оглядела ее со всех сторон, воскликнула:
— Царица, истинная царица!
— Воистину хорошо! — согласилась Федосья Прокопьевна, стоя у зеркала и любуясь золотой вышивкой на рукавах и полах своего верхнего платья. — А уж как люблю я эти краски — малиновый да золотой…
В сенях послышались легкие быстрые шаги. Дверь отворилась, и в горницу вбежал мальчик в синем камзольчике. За ним, охая и стеная, спешила тучная нянька-кормилица. Ванюша спрятался за материн широкий подол и оттуда показал старушке язык.
— Матушка-боярыня, прости грешную, не уследила, как он сюда вырвался…
— Ничего, Малаша, ничего… — успокоила ее Федосья Прокопьевна. — Я сама вот его, неслуха, отшлепаю. Будешь мамку слушать, озорник?..
Она стала шутливо тормошить и шлепать мальчика, одновременно лаская его и целуя. Ванюша, довольный игрой, крутился вокруг матери и счастливо смеялся. Но вот боярыня отстранила его от себя и строго сказала:
— Ступай, посиди тихо у окна. Я сейчас закончу сборы, и в церковь поедем.
Во дворе визжали поросята и гоготали гуси. Ванюша растворил пошире окно, чтобы больше увидеть. Растревоженные, с шумом выпорхнули из-за карниза два белогрудых голубя и полетели туда, где прижались к холму два десятка глинобитных домиков под соломенными крышами.
Мальчик проводил их глазами и снова стал рассматривать широкий двор. Сколько тут было амбаров и амбарчиков, в которых хранилось великое множество добра: мясо, окорока, рыба разная, масло, сметана, мука, крупы, зерно… Ванюша сам не раз бывал там, разглядывал запасы.
За амбарами располагались конюшни и скотный двор. У края ближнего поля лениво шевелила своими крыльями ветряная мельница.
Повсюду суетится много холопов — и в доме, и у амбаров, и на скотном дворе, и на мельнице. И все они слушаются и боятся одного человека — дворецкого дядю Артема. Ванюша его тоже боится больше отца, очень уж строг он и серьезен.
Солнышко уже поднялось над крышами домов, целовало крест на маковке церкви Михаила Архангела, зажгло изумрудом и золотом разрезанные на участки поля и дальний лес. Ванюша перевел взгляд в сторону Москвы-реки, где текла Чечерка. На берегу этой топкой заболоченной речушки недавно вместе с дядей Артемом пугал токующих тетеревов. Вдали виднелось сельцо Гуляево, тоже собственность Морозовых.
А сколько ещё у батюшки сел и деревень, которых Ванюша не видел… Он очень любит эти места окрест. Здесь он всё от рождения знает. Даже дорогу знает, которая в Москву ведет. Правда, слышал Ванюша, что есть дороги и побольше, и поважнее, но он их ещё не видел. Рассказывают, одна самая широкая и торная ведет в Великий Новгород, другая — в Ярославль.
Вдруг мальчик увидел, как в ворота въезжает подвода. В телеге сидит поп и толстая женщина с двумя мальчиками. Попа Ванюша сразу признал. Это Аввакум, который зимой уже бывал у них.
— К нам московские гости, матушка!
Федосья Прокопьевна поспешила к окну, а потом, узнав приезжих, охнула радостно и опрометью бросилась на улицу, забыв про сына.
Федя-ключник и старый кучер Морозовых помогали приехавшим выбраться из глубокой, как корыто, лубяной повозки. Аввакум отряхнул с черной заношенной рясы прилипшую солому и двинулся навстречу спешащей боярыне. Принял ее в объятья, облобызал, а она, опустившись на колени, целовала протопопу руку.