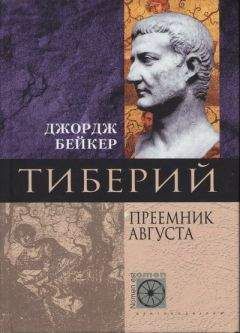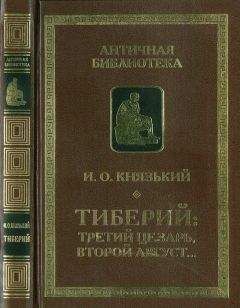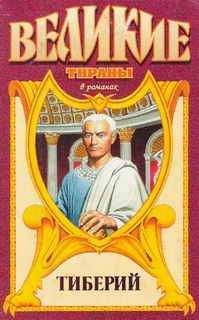Даниил Мордовцев - Царь и гетман
Мазепа остановился, он был страшен и силен. Но и пред ним был кремень, хотя уже до половины закопанный в могилу. У старухи все лицо ходенем ходило.
— Патриарх даст, так я не дам своего благословения! — как-то долбанула она своим птичьим клювом и застучала клюкой, стоявшей у кресла. — Не дам!
— Так и не нужно мне твоего благословения!
Старуха швырнула на пол чулок, оперлась на клюку — посох и встала, дрожа всем тщедушным, иссохшим телом.
— Не нужно!.. Тебе материнского благословения не нужно, змееныш! — И она подняла посох. — Так вот же тебе — на!
Она, шатаясь и дрожа, пошла на него с посохом. Мазепа отступал. Старушка запуталась в чулке, слабые ноги не выдержали, и она клюнулась носом о пол, упав бесшумно, словно мешок со старым хламом…
— Будь же ты проклят, аспидово отродье! Проклят, проклят, про-о-клят!..
— Матушка!..
— Буди проклят, проклят!.. Аминь… буди проклят!
— Мамо! Мамо! — он хотел поднять ее.
— Прочь, прочь, проклятый! Сгинь с очей моих.
Мазепа вышел, не оглядываясь более на свою мать. В ушах у него звенело проклятие…
— Мене бить… гетмана… как последнюю собаку… сего еще не доставало!..
— А мати Галина котику рыбки давала! — зазвенел ему навстречу голосок и тотчас же смолк: Оксанка испугалась очей гетмана…
VIII
С проклятием матери и с горьким чувством глубокого одиночества и сиротства воротился Мазепа в свою столицу, в Батурин. Теперь он еще более почувствовал то, что в последний раз высказал матери — что его кто-то проклял от колыбели, наложив на всю его жизнь, как на братоубийцу Каина, печать отчуждения. Но он, Мазепа, не убивал брата, да у него и не было брата… И он перебирал всю свою жизнь… Но и там ничего, кроме старых ран, — ничего, над чем бы поплакала усталая память сладкими слезами.
Тут, во всей этой Малороссии, он чувствует себя чужим, отгороженным от сердца народа, как он всю жизнь был отгорожен от сердца матери: народ не любил его, не верил ему, чуждался его; у него один кумир, как тот израильский змий в пустыне, и этот змий — Палий. И казаки, и старшина не любят Мазепы, он это видит, чувствует, подмечая в глазах всех ту искорку недоверия, какую можно видеть у чужой собаки, которая может и укусить… Там, в тогобочной Малороссии, он и подавно чужой: над каждой хаткой, над вновь запаханными нивами, над вновь выросшими из «руины» городами витает тень того же змия пустыни, а на Мазепу все смотрят, как евреи смотрели на фараона…
Да и Москва, царь и Польша смотрят на него только как на сторожевую собаку, которая прикована на цепь около их, чужого, добра и должна лаять по ночам…
Сгинула бы совсем эта проклятая безмозглая хохлатчина!..
И он невольно припоминает стихи, когда-то сочиненные им:
Вси покою щире прагнуть,
Та не в один гуж вси тягнуть —
Той направо, той наливо…
А вот и здесь на сердце одна была у него услада, одна надежда, так и ту отнимают. Кочубеи и слышать не хотят о женитьбе на их дочери, когда гетман формально посватался, сам богатые ручники и подарки привез из Киева. А все эта проклятая Кочубеиха Любка, запорожец в юбке, такой же запорожец, как и сажонная Палииха… Ну да та теперь далеко — в Енисейске где-то, где холодное небо со снежною сибирною землею сходится… Там и Самойлович сгинул… Всех сломил Мазепа — одну эту Кочубеиху Любку не сломить. Эко Салтан-Гирей какой завелся на Украине! Нельзя, говорит, жениться на крестнице — земля-де пожрет обоих в первую же ночь после венца… Вздор какой, «нисенитница»! А она-де, говорит, Мотря, — еще «мала дитина»… Мала!.. Чуть ли не девятнадцатый год…
А сама Мотренька? О! Да она безумно любит старого, никем не любимого, одинокого среди своего величия и роскоши гетмана. Может быть, за это одиночество, за это сиротство и привязалось к нему чистое, еще никого, кроме «тата» да «мамы», не любившее девичье сердце… Все время после той охоты по пороше, когда Палииха убила медведя и когда потом гетман с войском ушел в поход на тот бок Днепра, в Польшу, девушка не переставала думать о нем. Окруженный ореолом могущества и славы, полновластный владыка целой страны, могучий умом и волею, каким он казался всем и ей самой, он в то же время в мечтах девушки рисовался грустным, одиноким, таким одиноким, каким не мог казаться самый последний нищий, таким сиротствующим, которому, как в тот день, когда он особенно был грустен и когда Мотренька приносила ему цветы, ничего не оставалось в этой жизни, как искать своей могилы. И молодое сердце девушки разрывалось на части при мысли, что никто, никто в мире не может утешить его, что нет в свете существа, на груди которого он мог хоть бы выплакать свои никому, кроме ее одной, невидимые слезы, существа, которое могло бы приласкать эту седую, так много и так горько думавшую голову и отвечать любящими слезами на его горькие, одинокие слезы. И Мотренька плакала иногда, как безумная, думая о нем, особенно после того как он сказал, что она одна составляет радость его жизни, яркое солнышко в его мрачной старости, и что это солнышко скоро закатится для него. Первое ее чувство, из которого выросла потом страсть, было жалость к нему — о, какая жгучая жалость! Так бы, кажется, и истаяло, изошло слезами молодое сердце.
Когда Мазепа во главе своей свиты — войскового обозного, есаула, генерального судьи, войскового писаря, полковников разных полков и другой казацкой старшины, окруженный блестящим эскортом из золотой украинской молодежи — бунчуковыми товарищами и сердюками, въезжал в Батурин под звуки труб и котлов, под звон колоколов и при многочисленном стечении народа, Мотренька не вышла вместе с другими навстречу гетману и отцу и притаилась в своем саду, мимо которого следовал торжественный кортеж, и когда из блестящей свиты выделилось седоусое понурое и болезненно угрюмое лицо Мазепы рядом с черноусым и моложавым лицом Кочубея, девушка, прикрытая зеленью сада, восторженно упала на колени и перекрестила эти две головы — голову отца и Мазепы; но в душе она крестила только последнего, а тату своего мысленно целовала и дергала за черный ус, что она, перебалованная им донельзя, очень любила делать. Это движение видела лишь старая няня, следившая за панночкой, и заплакала от умиления, глядя на свою вскормленницу и благоговейно бормоча: «От дитина добра… Божа дитина»…
В тот же день вечером Мазепа навестил Кочубеев, явившись к ним с полдюжиною сердюков, которые принесли целые вороха подарков — для самой пани судиихи и для панночек, которых у Кочубеев, кроме Мотреньки, было еще две. Гетман был особенно любезен с хозяйкою, рассказывал о своем походе, описывал яркими красками то цветущее положение, в каком нашел Палиивщину — ту часть тогобочной Украины, которую вызвал к жизни Палий. Говорил о новых милостях, оказанных ему царем как в виде дорогих подарков, так и любезных писем, и о слухах, ходивших насчет шведского короля, о его беззаветной храбрости, о простоте его жизни, ничем не отличающейся от жизни солдат. Рассказ его был жив, увлекателен, остроумен. Между серьезной речью блистали остроты, каламбуры, словесные «жарты», которые так любит украинский ум. Он пересыпал свою речь удачными пословицами, стихами, польскою солью. Панночки слушали его с величайшим удовольствием, а Мотренька украдкой любовалась им и болела за него, зная, догадываясь, что под этой веселой, живой наружностью таится глубокая тоска, переживается тяжкое одиночество.
— А все мои старые кости не нашли своей домовины, — неожиданно и с горечью заключил он свою живую и восхитительную беседу.
Это было сказано так, что Мотренька, прибежав в свою комнату, бросилась на колени перед образом и зарыдала.
Немного спустя Мазепа отыскал ее в саду с заплаканными глазами. Это было поводом к роковому объяснению, положившему начало той страшной исторической драме, которая через три года закончилась кровавыми актами — трагической кончиной отца девушки, поражением Карла XII под Полтавой и не менее трагической кончиной Мазепы, которого прокляла вся Россия и втайне оплакало лишь одно существо, одно, любившее эту анафематствованную церковью крупную историческую личность, когда ее, по-видимому, ненавидели все, и свои и чужие.
Увидев свою крестницу заплаканною, гетман спросил ее о причине ее слез. Девушка сначала молчала, сидя на скамейке под дубом и рассматривая дубовый лист от ветки этого развесистого зеленого гиганта, свесившейся к самой ручке высокой скамьи. Старик стал гладить ее голову, допытываясь о причине слез. Девушка продолжала молчать, теребя листок, как это делают дети, собирающиеся вновь заплакать, и по всему видно было, что она собиралась разреветься. Мазепа отнял от ее рук ветку, взял за подбородок, как ребенка, и хотел приподнять ее лицо. Девушка упиралась, Мазепа тихо-тихо и грустно назвал ее по имени. Снова молчание, только на руку ему скатились две горячие слезы… «Что с тобою, дитятко мое?» — с испугом спросил он. «Вас жалко…» И девушка, припав к плечу гетмана, горько, неудержимо плакала. Мазепа тихо привлек ее к себе и, одною рукою придерживая стан, другою гладя бившуюся у него на груди горячую головку, долго сидел молча, пока она не выплакалась и пока грудь ее не стала ровнее и покойнее биться на его груди. Тогда он отвел от себя ее заплаканное лицо и, глядя в детски светлые глаза, которых никак не мог забыть Павлуша Ягужинский, тихо спросил: «Ты обо мне плачешь?» — «Об вас». — «О том, что я одинок — в могилу гляжу?» — «О, тату!» Мазепа помолчал, как бы собираясь с силами… «Хочешь быть моею?» — дрожа и почти шепотом спросил он. «Я давно твоя…» Мазепа стиснул ее руки… «Я говорю: хочешь ли ты быть вся моею?» Девушка молчала, глядя на него безумными глазами… «Хочешь ли быть малжонкою старого гетмана — перед людьми и Богом?» Девушка снова упала к нему на грудь с страстным шепотом: «Возьми мене… неси мене хочь на край свита… я твоя… твоя!..»