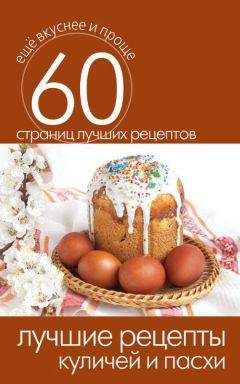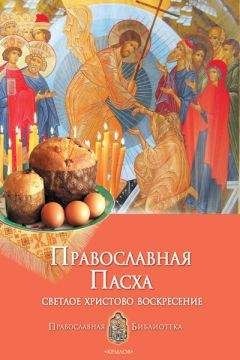Валерий Шамшурин - Купно за едино!
Только в кремлевских стенах, выйдя из колымаги, Звенигородский облегченно вздохнул. Десятка три богатых возков и расписных саней в пестрых разводах и цветах скопилось возле Съезжей избы. Лучшие люди Нижнего, вырядившись в дорогие шубы — бобровые да куньи, крытые гладким, косматым и тисненым ярким бархатом, аглицким да немецким сукном, кучкой стояли у крыльца, терпеливо ожидая воеводу. Серебряными блесками переливался на одеждах снег. Поодаль истуканами замерли стрельцы в праздничных малиновых кафтанах, поедая глазами нового начальника. И ощущение того, что в Нижнем все блюдется по старине и что он наконец-то обретет тут желанный покой, умиротворило Звенигородского. Князь приветно улыбнулся подавшейся ему навстречу знати, выслушивая разноголосицу похвал и пожеланий, но страшная усталость подкосила его ноги, и он бы, верно, упал, если бы приглядчивый дьяк Семенов не подхватил его подмышки и не довел до крыльца.
— Примем его милость по-христиански, — обернулся он к собравшимся, кивком головы давая знак до поры не тревожить сморенного воеводу, — накормим, напоим да спать уложим, а уж опосля за дела возьмемся. Расходитеся покудова…
Звенигородский долго не мог прийти в себя и долго не смолкал по-комариному назойливый звон в его ушах. Так и сидел недвижно в шубе на лавке, поникнув головой, пока звон не стал затихать и наконец пропал вовсе. Василий Андреевич поднял мутные страдальческие глаза и увидел перед собой дьяка с большой кружкой кваса в руках. Князь выхлебал квас до дна. Поотмяк.
— Что ж вы, сукины дети, — как бы жалуясь, а вовсе не бранясь, одышливо вымолвил он, — древлих законов не чтите?
— Прости, благодетель, за оплошку, не сумели принудой народишко собрать, — без какого-либо трепета и как в чем-то не слишком предосудительном покаялся дьяк.
Звенигородский внимательно глянул на него: не пьян ли? Потом снял горлатную шапку, за ней суконный колпак, тафью, провел ладонью по мокрым от пота реденьким волосам.
— А оброк-то собрали? Пошто в Москву не выслали?
— Собрать собрали с лихвой да не у нас казна.
— У кого ж?
— Земство ее к рукам прибрало.
— Диво дивное! Земство, вишь, прибрало. Изымите!
— Поздно, князь, уже не в нашей то власти. Мы сами тут ровно в полоне.
— Смута?
— Нешто можно допустить? Смуты у нас нет.
Вовсе не было похоже, чтоб тучный дьяк со своей масляной рожей и громовым басищем был чем-то удручен. И ничего не мог понять Звенигородский из его невразумительных ответов. Князя впервые за последние сутки клонило в сон, и он отложил разговор на завтра.
— Ну сочтуся я с вами!.. Ну разберусь!..
Уже бредя под руку с грузным дьяком из Съезжей избы в отведенные ему покои, воевода опамятованно встрепенулся:
— Смуты нет, а смутьянов, верно, не повывели. В темницы их покидать! А тех, кто в темницах ноне, предать смерти!..
7Монах Николай был разбужен едва начало светать. Вставшие у порога стрельцы не торопили его, невозмутимо наблюдали за недолгими приготовлениями. И монах понял, что у него не осталось никакой надежды. Он пал на колени и хотел сотворить молитву, но молитва не шла на ум, вся латынь забылась. Строгий облик отца Мело всплыл в памяти. Наставник медленно шевелил струпьистыми губами, будто подсказывал. Напрасно. Несчастный узник ничего не разобрал. Предчувствие близкой смерти все сильнее сжимало сердце, и дух не мог совладать с охваченной ужасом плотью. Опершись рукой о ложе, Николай все же сумел подняться. Драная шубейка, которой он покрывался, ложась спать, висела на его иссохших плечиках, как на колу.
Стрельцы молча расступились, и осужденный вышел из темницы.
Чуть покалывал легкий морозец. Синяя сумеречь шевелилась в падающем снеге, сочной сгущенной тенью лежала вдоль внутренней крепостной стены.
Тропка была узкой, и все шли гуськом — со стрелецким десятником впереди. Едва не упираясь бердышем в хилую спину смертника, за ним следовал Афонька Муромцев. Маленький, тщедушный и покорливый инородец вызывал у молодого стрельца жалость. Как слышал Афонька, вреда он никакого не причинил и казнить его, по афонькиному разумению, не было нужды — лучше отпустить бы с миром на все четыре стороны: пущай себе разгуливает сморчок. Тем паче по-русски не смыслит, все одно, что глух и нем, Надо ж такое наклепать на убогого, будто он подослан злодействовать в Нижний польской еретичкой Мариной! Совсем тронулись умом начальные.
Навстречу шествию вынесло бабенку с пустыми ведрами. Она растерялась, метнулась на рыхлую обочину, оглядывая всех испуганными глазами.
— Чего под ноги прешь! — грубо крикнул ей десятник и остановился, озадаченный дурной приметой. Все сбились в кучу.
— Чай, то вещий знак нам, — внезапно высказал вслух свое смятение Афонька. — Неправедно творим, неправедно…
— Заткнися, щенок! Не твоей голове о том судить, — разозлился десятник. — Что-то изрядь нонь праведников расплодилося, а благочиния все нет.
— Шемякин суд-то, — не отстал Афонька.
— За изменные речи самого вздерну. Не вводи во грех!
И десятник широко перекрестился, заслышав заутрений благовест.
Они неспешно двинулись дальше. Монаха стало знобить. Чтобы отогнать страх, он снова начал вспоминать молитву. Но вместо нее из самой глубины памяти пробилась незатейливая древняя детская песенка. И осужденный без конца повторял одни и те же родные слова, которые если не успокаивали, то отвлекали его, спасая от безудержного отчаянья:
Фурэ-фурэ, коюки,
Тамарэ, коюки!..[29]
Неизбежное должно было свершиться. Но он умрет с тем, что никому не отнять у него. Дух его улетит в покинутую Японию, где жестоко правит сёгун Токугава, но дух тот не будет одним из признаков несчастных эта[30], заброшенных по воле рока в чужую землю, и не покаянной мольбой странника, порывающего с католичеством, которое навязал ему суровый проповедник Мело, а вечным благословением милой родине. Снег облетающих лепестков сакуры кружился в глазах и смешивался с русским гибельным снегом.
Глава седьмая
Год 1611–1612. Начало зимы. (Печерский монастырь. Мугреево. Нижний Новгород)
Сребровласый и старчески сохлый архимандрит Феодосий, расслабленно отвалившись на высокую, увенчанную резным крестом спинку жесткого кресла, с мудрой бесстрастностью внимал протопопу Савве, который изо всех сил пытался воспламенить его. Блестело от пота чело Саввы, нелегко ему давалась увещевательная речь, но он упорно гнул свое. «В Разрядный приказ бы Ефимьеву ведать ратным набором, а не в храме отправлять требы», — всякий раз, когда взглядывал на кряжистую протопопью стать, думал архимандрит.
Мысль Кузьмы склонить печерского настоятеля на поездку к Пожарскому гвоздем засела в голове протопопа, хотя он поначалу всячески противился той мысли, находя разные отговорки. Однако, побыв на мирском сходе, воодушевленный Савва вроде бы вконец уверился в правоте посадского вожака. Быть ополчению в Нижнем, а коли так — не обойтись без умелого честного воеводы. Пожарский придется кстати. Опричь его, нет лучшего руковода окрест.
На другой день после схода Кузьма вновь затеял старый разговор с протопопом, придя к нему в ризницу. Среди тесных стен, завешанных церковными одеяниями, Савва ощутил себя попавшим в собственную западню. Отговорок у него уже не находилось, да и сам он посчитал постыдным отпираться. Все же не изменил своей привычке медлить:
— Тяжко бремя воскладаеши еси на мя, Козьма-свете. Строг, непокладист архимандрит. Прогонит — сорому не оберуся.
— Кто ты, коль не отступник? И ермогенова слова тебе мало, и воли паствы твоей? Али сызнова на квасок меня потянешь?
Обидно насмешничал Кузьма, и Савва не мог выдержать его пристального взгляда. К архимандриту пошел полный решимости.
Беспрестанно поминая гермогеново послание, а также слезную грамоту троицких старцев, Савва с неостывшим от разговора с Кузьмой возбуждением внушал Феодосию, что воеводская власть в Нижнем потому лишилась людской приязни, что по недомыслию напрочь отворотилась от народа. Неровен час, народ озлится и на православные храмы, чиня бунташную колготу, ежели церковь не сподобится поддержать народный зиждительный дух, сойдет с уготованной ей господом пастырской стези. Не в хвосте, а в голове подобает быть церкви.
Не мог не согласиться с протопопом Феодосий. Все верно говорил Савва про церковь. Надобно крепить величие ее. Сам о том денно и нощно печется. Да не его вина, что один упадок кругом.
Мысли печерского настоятеля перетекли в обычное русло. Многажды сбирался он затеять большое каменное строительство монастыря, дабы возвернуть ему былую мощь. Еще в конце царствования Федора Иоанновича постигло обитель страшное несчастие: оползень снес все до единого строения. Ютятся монахи в наскоро срубленных келейках, молятся в убогих обыденных церквушках. Како тут величие! Захудалый черносошный мужик ныне живет гораздо приглядней. И хоть втае тяготел Феодосий к нестяжателям, не гнался за пышностью да излишеством, но не единожды с завистливой печалью поглядывал на икону, писанную при Иоанне Грозном, на коей был представлен основатель монастыря Дионисий возле пятиглавого собора дивной лепоты. Бесследно исчез собор под оползнем.