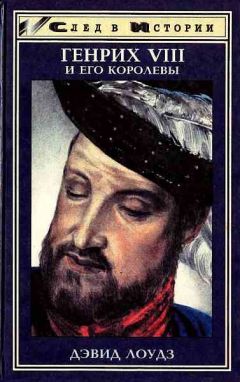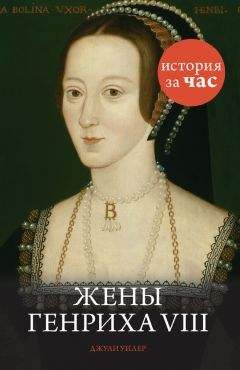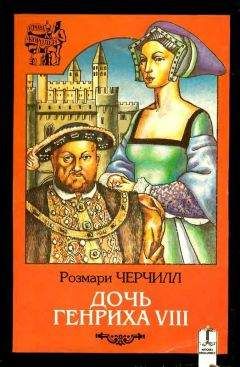Генрик Сенкевич - Повести и рассказы
— Ну, слава богу, кончил!
— Прочитайте-ка, что вы там намарали.
— Зачем марать? Я написал в точности все, что требуется.
— Читайте, говорю!
Войт взял бумагу и, держа ее обеими руками, начал читать:
— «Войту Вжецёндза. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь. Начальник приказал, чтобы рекрутские списки были сейчас после божьей матери, а тут все ментрики в приходе у священника, а также равно наши ребята, что ходят на жнитво, понятно? — чтобы были вписаны; и их прислать перед божьей матерью, как сравняется восемнадцать лет, а в случае если этого не сделаете, получите по башке, чего себе и вам желаю. Аминь».
Почтенный войт каждое воскресенье слышал, как ксендз именно этими словами кончал свою проповедь, и такое окончание казалось ему не только необходимым, но и отвечающим всем, требованиям хорошего слога; между тем Золзикевич, прослушав до конца, расхохотался.
— Разве так пишут? — спросил он.
— Напишите вы получше.
— И напишу, а то мне стыдно за всю Баранью Голову.
Сказав это, Золзикевич сел, взял перо, описал им несколько кругов в воздухе, словно для разгона, и начал быстро писать. Через несколько минут уведомление было готово; тогда автор, откинув волосы, прочитал вслух:
— «От войта Бараньей Головы войту Вжецёндза.
Так как по распоряжению начальства рекрутские списки должны быть готовы, к такому-то числу такого-то года, то уведомляю войта Вжецёндза, чтобы метрики крестьян деревни Баранья Голова., находящиеся в приходской канцелярии, из оной канцелярии вытребовать и выслать в деревню Баранья Голова в кратчайший срок. Крестьян же деревни Баранья Голова, находящихся на работе во Вжецёндзе, в тот же день доставить».
Войт жадно ловил каждый звук, и лицо его при этом выражало восторг и почти религиозное благоговение. Все это казалось ему прекрасно, торжественно и вместе с тем сугубо официально, Взять, к примеру, хотя бы начало: «Так как рекрутские списки» и т. д. Войта неизменно восхищали эти «так как», но научиться им он никак не мог. Начало, впрочем, ему еще кое-как удавалось, но уж дальше — ни с места. У Золзикевича же все шло гладко кате по маслу. Лучше его не могли бы написать и в уезде. Оставалось только покоптить печать, приложить ее к бумаге так, чтобы стол затрещал,— и готово.
— Что и говорить, одно слово — голова! — сказал войт.
— Еще бы,— ответил польщенный Золзикевич,— недаром писаря пишут книги.
— А разве вы тоже пишете книги?
— Что же вы спрашиваете, будто сами не знаете? А кто же пишет канцелярские книги?
— Это правильно,— ответил войт и, подумав, прибавил: — Теперь списки мигом придут.
— Вы вот смотрите, сейчас же избавляйтесь от всех бездельников в деревне.
— Избавишься от них!
— А я вам говорю, начальник жаловался, что в Бараньей Голове народ беспутный. На складчину, говорит, ничего не дают, только пьянствуют. А Бурак, говорит, им потворствует и еще ответит за это.
— Будто я не знаю, чуть что — все мне отвечать. Когда Розалька Ковалиха родила, суд присудил, ей всыпать двадцать пять розог, чтоб в другой раз неповадно было: дескать, нехорошо это для девки. A кто присудил? Я? Не я, а суд. А мне что до этого? По мне, пусть бы хоть все рожали. Присудил-то суд, а виноват выхожу я, «Ты что, не знаешь,— говорит начальник,— что теперь телесные наказания отменены?» И сразу бац меня по башке. «Не знаешь, что никого нельзя бить?» И снова бац меня. Такая уж моя доля.
В эту минуту корова с такой силой ударила в стену, что содрогнулась вся канцелярия.
— Э, раздуй тебя горой! — с негодованием крикнул войт.
Между тем писарь, усевшись на стол, снова начал ковырять в носу.
— И поделом вам! — наконец проговорил он. — Чего вы смотрите? И сейчас будет так. Это пьянство до добра не доведет. Одна паршивая овца все стадо портит! Разве неизвестно, кто в Бараньей Голове всем управляет и людей толкает в корчму?
— Это уж как знать, а насчет питья, так иному после работы непременно нужно выпить.
— А я вам говорю: избавитесь от Репы — и все хорошо будет.
— Что же мне, по-вашему, башку ему свернуть, что ли?
— Башку ему не свернешь, а теперь составляются рекрутские списки, внести в список — и пусть тянет жребий.
— Да ведь он женатый, у него уже мальчишка годовалый.
— Кто же об этом узнает? Жаловаться он не пойдет, а пойдет, все равно никто его слушать не станет. Когда набор идет, никому недосуг.
— Ох, пан писарь, пап писарь! Видать, тут дело не в пьянстве, а в жене Репы... Да ведь это большой грех!
— А вам-то что? Вы вот смотрите, ведь и вашему сыну уже девятнадцать лет, значит, и ему тянуть жребий.
— Знаю я это, а сына своего не отдам. Если нельзя будет иначе, так и выкуплю.
— Ишь ты, какой богач нашелся!
— Подкопил я малость медяков, хоть и не больно много, да авось хватит.
— Восемьсот рубликов медяками придется платить.
— Раз сказал — заплачу, так хоть и медяками, а заплачу! А там бог даст, останусь войтом, так с божьей помощью годика за два опять соберу.
— Это еще неизвестно, соберете вы или не соберете. Мне ведь тоже нужно, и я не допущу, чтобы вы всем один пользовались. У человека образованного расходов всегда больше, нежели у простого, а мы запишем Репу вместо вашего сына, а вы денежки сбережете... Восемьсот рублей на улице не валяются.
Войт призадумался. Надежда сберечь такую значительную сумму приятно улыбалась ему.
— Да ведь за это не похвалят,— наконец проговорил он.
— Уж это не вашего ума дело.
— Вот я и боюсь: вы своей головой надумаете, а свалится все на мою голову.
— Не хотите, так платите восемьсот рублей...
— Да разве я говорю, что мне их не жалко!
— Если вы думаете, что соберете их опять, так нечего и жалеть. Но вы не особенно рассчитывайте, что останетесь войтом. Еще про вас не все знают, а вот узнают то, что я знаю...
— Да ведь канцелярских вы больше берете, чем я,— возразил войт.
— Я не о канцелярских говорю, а о прежних делах...
— Этого я не боюсь! Что мне приказывали, то я и делал.
— Ну, оправдываться вы будете в другом месте.
Не прибавив больше ни слова, писарь надел свою зеленую клетчатую фуражку и вышел из канцелярии.
Солнце стояло уже низко; люди возвращались с полей. Первыми навстречу писарю попались пять косарей с косами за плечами, они поклонились ему и сказали обычное: «Слава Иисусу», но пап писарь только кивнул им своей напомаженной головой, а «Во веки» не ответил, полагая, что образованному человеку это не подобает. Об образованности пана Золзикевича знали все, и сомневаться в ней могли лишь злые или недоброжелатели, для которых всякая личность, возвышающаяся над средним уровнем, словно бельмо на глазу и не дает им спокойно спать.
Если бы у нас, как подобает, издавались биографии всех наших знаменитостей, то из биографии этого незаурядного человека, портрета которого — не понимаю почему — не поместил пока пи один из наших иллюстрированных журналов, мы бы узнали, что первоначальное образование он получил в Ословицах, столице Ословицкого уезда, к которому принадлежала и Баранья Голова. На семнадцатом году юный Золзикевич дошел уже до второго класса и, вероятно, с такой же быстротой подвигался бы и дальше, если бы не наступили бурные времена, положившие раз и навсегда конец его научной карьере.
С горячностью, свойственной молодости, Золзикевич, которого и раньше преследовала несправедливость учителей, став во главе сочувствующих товарищей, устроил своим обидчикам кошачий концерт. Затем изорвал книги, изломал линейки, перья и, покинув храм Минервы, ринулся в объятия Марса и Белоны.
Это была пора в его жизни, когда брюки он носил не па голенищах, а в голенищах, пора, когда он певал с жаром, пышущим горькой и страшной иронией: «О, честь вам, паны магнаты!» Кочевая жизнь, песни, облака табачного дыма, романтические приключения на постоях с молоденькими девушками, которые носили крестики на груди и ничего не жалели для «родины и ее храбрых защитников», — такая жизнь, говорю я, гармонировала со страстной и мятежной душой молодого Золзикевича, Он находил в ней воплощение своей мечты, владевшей его умом с давних пор, когда он еще в школе, под партой, зачитывался «Ринальдо Ринальдини» и другими произведениями, которые развивали ум и сердце и пробуждали воображение пашей молодежи.
Но у этой жизни были свои темные, верное, рискованные, стороны. Бешеная отвага слишком увлекала Золзикевича, Увлекала настолько, что — хоть этому верится с трудом — еще до сего дня показывают в Вжецёндзе плетень, через который не мог бы перескочить самый лихой конь, а пан Золзикевич однажды бурной ночью перескочил одним махом, охваченный страстным желанием сохранить себя на радость отечеству. Ныне, когда времена эти давно миновали, сколько бы раз ни приходилось папу Золзикевичу бывать в Вжецёндзе, поглядывал он на этот плетень и, сам себе почти не веря, думал; «Черт побери! Сейчас я бы так не сумел!»