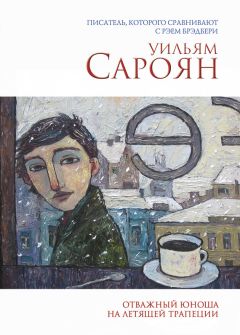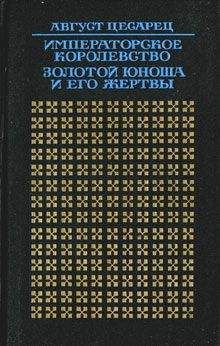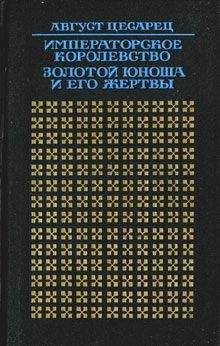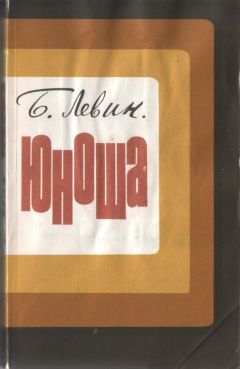Хилари Мантел - Волчий зал
Парнишка младше его самого, стоя на карачках, скреб ступеньки и горланил:
Scaramella va alia guerra
Colla lancia et la rotella
La zombero boro borombetta,
La boro borombo…[35]
— Подвинься, Джакомо, — попросил он.
Тот отстранился, освобождая проход. Луч света стер любопытство с лица, погасил его, растворяя прошлое в прошлом, расчищая место для будущего. Скарамелла идет на войну… Но ведь я и вправду был на войне, подумал он.
Он поднялся на второй этаж. В ушах грохот и спотыкание барабанов: ла дзомберо боро борометта. Он поднялся на второй этаж и никогда больше не спустится на кухню. В углу меняльной конторы Фрескобальди его ждал стол. Напевая Scaramella fa la gala — Скарамелла отправляется на праздник, — он занял свое место. Очинил перо. Мысли теснились, тосканские, кастильские ругательства, проклятья, которые он помнил со времен Патни. Но когда он доверил мысли перу, они легли на бумагу безупречно гладкой латынью.
Не успевает он подняться, а женщины уже знают, что он от Анны.
— Говори, — требует Джоанна, — высокая или низкая?
— Ни то ни другое.
— Я слыхала, высокая. Бледная, как поганка.
— Так и есть.
— Говорят, она очень грациозна, превосходно танцует.
— Мы не танцевали.
— А сам ты что думаешь? — вступает Мерси. — Правда ли, что она евангельской веры?
Он пожимает плечами:
— И не молились.
Алиса, маленькая племянница:
— Какое на ней было платье?
А вот наряд он готов расписать в деталях — от чепца до подола, от ступней до мизинцев: что, откуда и почем. Анна носит круглый чепец по французской моде, который выгодно подчеркивает тонкие скулы. Это объяснение женщины принимают с неодобрением, несмотря на тон, деловой и холодный.
— Она вам не понравилась? — спрашивает Алиса. Понравилась — не понравилась, не мне судить, да и тебе, Алиса, не советую, говорит он, тормоша племянницу и заставляя ее визжать от хохота. Наш хозяин сегодня в духе, говорит малышка Джо. А эта беличья отделка, начинает Мерси. Серая, отвечает он. А, серая, вздыхает Алиса и морщит носик. Должна сказать, ты стоял очень близко, замечает Джоанна.
— А зубы у нее хорошие? — спрашивает Мерси.
— Ради Бога, женщина! Когда она их в меня вонзит, я тебе сообщу.
Когда кардинал узнает, что Норфолк готов примчаться в Ричмонд и разорвать его собственными зубами, то, смеясь, замечает:
— Мать честная! Коли так, Томас, пора ехать.
Однако чтобы двинуться на север, Вулси нужны деньги. Проблема изложена королевскому совету, в котором нет согласья. Споры продолжаются и при нем.
— Нельзя же, — восклицает Чарльз Брэндон, — чтобы архиепископ пробирался на свою интронизацию[36] тишком, словно лакей, стащивший ложки!
— Если бы ложки! — взрывается Норфолк. — Да он объел всю Англию, стянул скатерть и, клянусь Богом, вылакал винный погреб!
Генрих умеет быть неуловимым. Как-то раз, придя на аудиенцию к королю, Кромвель был вынужден довольствоваться обществом королевского секретаря.
— Садитесь, — говорит Гардинер, — слушайте. И держите себя в руках, пока я не закончу.
Он смотрит, как Гардинер снует по комнате, Стивен — полуденный демон: вихляя конечностями, каждой черточкой источая яд. Ручищи огромные, волосатые, а когда Стивен сжимает кулак и упирает в ладонь, костяшки хрустят.
Уходя, он уносит с собой слова Гардинера вместе с заключенной в них злобой. На пороге оборачивается, мягко улыбается:
— Ваш кузен кланяется вам.
Гардинер смотрит на него. Брови топорщатся, как собачий загривок. Неужто Кромвель смеет…
— Нет, не король, — успокаивает он секретаря. — Не его величество. Я говорил о вашем кузене Ричарде Уильямсе.
— Никакой он мне не родственник! — выпаливает Гардинер.
— Полноте! Быть королевским бастардом — не позор. По крайней мере, так считают в моей семье.
— В вашей семье? Да что вы понимаете о пристойности? Я не желаю знать этого юнца, не собираюсь с ним водиться и не намерен ему помогать!
— Право, незачем утруждаться. С недавних пор он зовет себя Ричардом Кромвелем.
Уходя — на сей раз окончательно — он добавляет:
— Пусть совесть вас не гложет, Стивен. Я присмотрю за Ричардом. Ему вы, возможно, и родственник. Но не мне.
Он улыбается, но внутри все кипит от ярости, словно в кровь впрыснули яд и она стала бесцветной, как у змеи. Дома он хватает в охапку Рейфа Сэдлера и лохматит тому волосы.
— Вот и пойми: мальчик или еж? Ричард, Рейф, я полон раскаяния.
— На то и пост, — замечает Рейф.
— Как бы мне хотелось обрести спокойствие! Проникнуть в курятник, не задев ни перышка. Меньше походить на дядю Норфолка и больше — на Марлинспайка.
Долгий разговор с Ричардом, который хохочет над его валлийским. Когда-то знакомые выражения стерлись из памяти, и он то и дело жульничает: произносит английские слова на валлийский манер. Племянницам достаются браслеты с жемчугами и кораллами, купленные давно, да недосуг было подарить. Он спускается на кухню и весело отдает приказания.
Затем собирает слуг и приказчиков.
— Мы должны все продумать заранее, смягчить кардиналу дорожные тяготы. Передвигаться будем медленно, дабы народ мог выразить его милости свое почтение. Страстную неделю кардинал проведет в Питерборо, оттуда, с остановками, доберется до Саутвелла, где наметим дальнейший путь к Йорку. Комнаты в Саутвеллском дворце вполне пригодны для жилья, однако не мешало бы нанять строителей…
Джордж Кавендиш говорит, что кардинал проводит время в молитвах, в обществе угодливых ричмондских монахов, которые без устали расписывают его милости благотворное воздействие шипов, впивающихся вплоть, сладость соли, щедро насыпаемой на раны, изысканный вкус хлеба с водой и унылые радости самобичевания.
— Хватит, мое терпение лопнуло. Чем скорее кардинал окажется в Йоркшире, тем лучше! — негодует он.
Обращается к Норфолку:
— Так как же, милорд, хотите вы, чтобы он уехал, или нет? Хотите? Тогда идемте со мной к королю.
Норфолк хмыкает. Короля испрашивают об аудиенции. Спустя день или два они встречаются под дверью королевских покоев. Герцог меряет шагами приемную.
— Святой Иуда! — выпаливает Норфолк. — Да тут можно задохнуться! Выйдем на улицу? Или ваш брат стряпчий обходится без воздуха?
Они прохаживаются в саду. Вернее, прохаживается он, герцог тяжело топает и пыхтит.
— Зачем тут цветы? — ворчит Норфолк. — Когда я был ребенком, никаких цветов не было в помине! А все Бекингем. Он завел эту чепуху. Баловство одно.
В 1521 году страстному садовнику герцогу Бекингему отрубили голову за измену. С тех пор не прошло и десяти лет. Печально вспоминать об этом весной, когда из каждого куста доносятся птичьи трели.
Их зовут к королю. Герцог артачится, как норовистый жеребец, глаза вращаются, ноздри раздуты. Кромвель шагает слишком быстро, и Норфолк кладет ему руку на плечо, вынуждая умерить шаг, и вот они тащатся друг за другом, процессия искалеченных вояк. Scaramella va alia guerra… Рука Норфолка дрожит.
Но лишь когда они предстают перед королем, он окончательно понимает, как не по себе старому герцогу в присутствии Генриха Тюдора. Рядом с этим золотым весельчаком Норфолк съеживается под одеждой.
Генрих приветлив. Дивный день, не правда ли? Как дивно устроен этот мир, не находите? Король расхаживает по комнате, широко раскинув руки и декламируя вирши собственного сочинения. Он готов беседовать о чем угодно, только не о кардинале. Норфолк багровеет и начинает бурчать. Аудиенция окончена, они идут к двери.
— Кромвель, стойте, — произносит Генрих.
Они с герцогом обмениваются взглядами.
— Клянусь мессой… — бормочет Норфолк.
За спиной Кромвель делает жест, означающий, ступайте, милорд Норфолк, я вас догоню.
Генрих стоит, скрестив руки, опустив глаза. Он разбирает шепот короля, лишь подойдя совсем близко.
— Тысячи хватит?
На языке вертится ответ: первой из тех десяти, которые, насколько мне известно, вы задолжали кардиналу Йоркскому десять лет назад?
Нет, он не осмелится. В такие минуты Генрих ждет, что ты упадешь на колени: герцог или крестьянин, грузный или тощий, молодой или дряхлый. Что ты и делаешь. Шрамы ноют: немногим, дожившим до сорока, удалось избегнуть ран.
Король делает знак — можно встать.
— А герцог Норфолк вас отличает. — Генрих удивлен.
Рука на плече, догадывается он: минутное дрожание герцогской длани на плебейских мышцах и костях.
— Герцог всегда помнит о своем статусе и никогда не переходит границ.
Генриха успокаивает ответ.
Непрошеная мысль не дает покоя: что если вы, Генрих Тюдор, лишитесь чувств и рухнете к моим ногам? Будет ли мне дозволено поднять вас или придется звать на подмогу герцога? Или епископа?