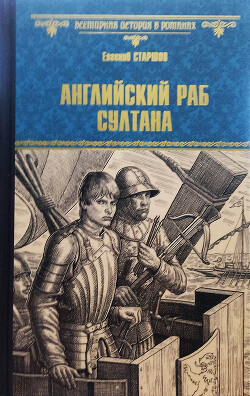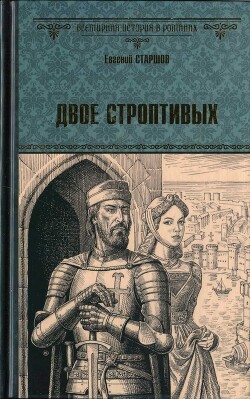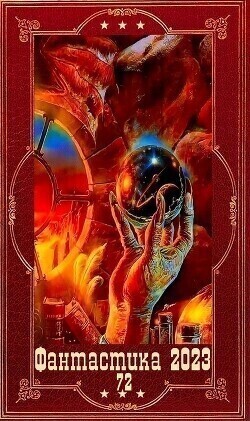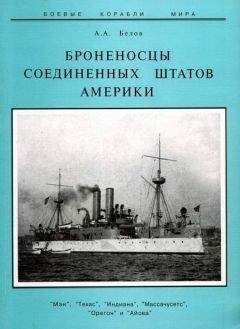Схватка за Родос - Старшов Евгений
Крепок и жилист был немец, но против такого арсенала кто устоит? Он сознался во всем — только сообщников не выдал, потому что у него их фактически не было. Помянул разве что безымянного еврея, посредством коего он передавал известия туркам.
Каурсэн бесстрастно записывал все его показания. О том, что немец, состоя на службе у султана Мехмеда, проник в город с целью выяснить состояние укреплений и предать эти сведения в руки нехристей. Что, хотя за ним и следила приставленная магистром охрана, этот предатель все равно находил пути связываться с Мизаком и посылать в его лагерь полезные советы и указания. И наконец, что Родос — далеко уже не первая крепость, которую он сдал османам таким вот способом притворного раскаяния.
— Господа военный совет, — обратился к присутствовавшим великий магистр, — полагаю, иных свидетельств нам не нужно. Приговор злодею один — позорная казнь через повешение принародно, на рыночной площади. Только надо все обеспечить, чтоб не как в прошлый раз… За евреями проследить тщательно!
— А давайте мы им из требушета в сторону турок выстрелим! — предложил кто-то из "столпов", в то время как другой сказал:
— Вешать или выстрелить, без разницы — главное, на шею ему, иуде, кошель с 30 сребрениками привязать, чтоб было ясно, что за птица!
— Оставьте, — сказал магистр. — Мы его осудили, так не будем же глумиться. И так все знают, за что он свое получит. Кроме того, огласят приговор… Но от одного я, пожалуй, все же не удержусь… Были ведь к нам послания от турок, чтоб мы не доверяли "мастеру Георгию"? И кто-то ведь даже говорил, что это сам Мизак вводит нас в заблуждение, чтоб мы нарочно поверили этому виллану? Вот и отпишу визирю, что я воспользовался данным им советом. Пусть локти покусает, если это и вправду его задумка. Брат кастеллан, распорядись, что сладили виселицу…
Георга Фрапана через день после ареста проволокли через полгорода с надетой на шею веревкой в палец толщиной. Перебитые руки были связаны, истерзанные ноги еле передвигались.
Вообще-то, приговоренных, да тем более пытанных, было принято везти на телеге, но в данном случае преступника для пущего позора заставили идти на казнь своими ногами, в чем нас убеждает иллюстрация из парижского кодекса Каурсэна 1490 года.
На голову немцу нацепили чалму в знак принадлежности к врагам ордена и острова. Рядом с ним шел францисканский монах Антуан Фрадэн в качестве исповедника, а перед хорошо охраняемой процессией шли трубач и герольд с жезлом.
Множество рыцарей и высших орденских чинов окружало виселицу (магистр не пошел глядеть на конец негодяя), а за ними толпился простой народ. Призвав толпу к молчанию, сарджент огласил приговор:
— Георг Фрапан, за все свои вины перед Господом Иисусом Христом, Орденом святого Иоанна и жителями города Родос, коих ты нечестивым обманом хотел предать в руки нехристей, ты приговорен быть повешенным за шею и висеть на виселице, пока не будешь мертв, мертв, мертв!
Были соблюдены все необходимые формальности, включая раздевание (так что на немце осталась лишь длинная белая рубаха и позорящая чалма). А после последнего напутствия брата Фрадэна злокозненный изменник был повешен, как отметил Каурсэн, при полном одобрении родосцев.
Перефразируя Франсуа Вийона, чуть было не оказавшегося в подобном же положении, можно сказать: "И сколько весит этот зад — узнала эта шея". Великий же магистр собственноручно написал на маленьком клочке пергамента: "Мизак, я последовал твоему благому совету и повесил мастера Георгия. Такова будет судьба всех шпионов, засланных в город Родос" — и подписался, после чего прикрепил записку к стреле и собственноручно отправил ее адресату под смех и единодушное одобрение окружавших.
Изобличение и повешение столь злобного, хитрого и опасного врага вызвало и у обычных жителей, и у членов ордена просто праздничное настроение и ликование; только и разговоров было, что о повешенном немце.
…Ни Элен, ни Лео не ходили смотреть на казнь Фрапана — оба они считали себя выше подобных кровожадных развлечений толпы, а кроме того, раз выдалась возможность побыть вместе, неужели тратить ее на этакое? Нет, они снова вместе, нежны и трепетны, словно впервые соединились на ложе любви, только какое-то горестное предчувствие все равно тяготеет над их альковом, смущая души… Постоянное зрелище умерших и убитых, проносимых на носилках с прицепленными к ним фонарями под унылое пение католических монахов в колпаках или не менее безрадостные византийские похоронные распевы, так и нашептывало, что сегодня-завтра так понесут и тебя, закидают землею на прокорм червей, и прах во прах возвратится, а душа — к Тому ли, кто дал ее, или как?.. Что там, по ту сторону жизни? Остаются ли чувства, сознание, разум, любовь?.. Хорошо, если да, а ну как нет? Тогда как вдоволь насладиться ими здесь, в царстве разгулявшейся вовсю смерти, под адский гром турецких пушек, под постоянное memento mori [34]?.. Не выпускать друг друга из объятий, сохранить хоть в памяти каждый локон волос, каждую искорку взгляда, мелькнувшую лукавинку в уголках губ…
Однако не будем об этом. Перо историка, как и его сердце, уже слишком сухо для того, чтобы создать на века историю безумной любви на развалинах пылающего Родоса. Пора подводить к концу историю родосской осады, осталось уже недолго.
Известие о горестной кончине Фрапана повергло Мизака в полное уныние — если раньше он возлагал на него довольно большие надежды, теперь приходилось что-то придумывать самому — а более ничего не придумывалось. Те мелкие пакостники, что еще оставались внутри крепости, после разоблачения и казни Георга совсем по норам и щелям попрятались и никаких признаков ни жизни, ни деятельности не выказывали. Решив довериться коллективному разуму, Мизак созвал своих полководцев и начал, как говорится, думу думать.
Бейлербей Анатолии, малость оправившийся после полученной в деле 19 июня раны, стоял за крупный штурм итальянского поста. Остальные эту идею особо не поддерживали, справедливо опасаясь, что и здесь им как следует наподдадут. Анатолиец, как всегда, доказывал, что иоанниты сильны именно на море, отчего было сугубо ошибочно ввязываться с ними в схватку на воде, где они пожгли и потопили массу кораблей.
— Только на суше, — пылко говорил он, — мы имеем сокрушающее преимущество, которым мы, по сути, толково так и не воспользовались.
— При портовой башне тоже дело шло на суше, — едко заметил старичок Сулейман и многозначительно покачал головой.
— Много людей положим, — сухо отозвался визирь.
— Умрут? И что? Бабы рожать разучились? — кипятился бейлербей, но старик поддел его:
— Сановный бейлербей анатолийский, стратег необычайный, поведай лучше мне, недостойному, отчего выходит, что засыпаемый столь рьяно ров так и не засыпается, а? Сколько материалу вбито, людей положено, а посмотришь — не то, что не прибыло, а даже убыло.
Что, джинны, ифриты [35] уносят по ночам камни и стволы деревьев?
— Видно, гяуры убирают… — скромно предположил военачальник, потупя очи.
— Только их не видно, — отметил Сулейман.
— Оседает под своей тяжестью, — высказался преемник Алексиса Тарсянина, но на него только рукой махнули — глупость!
— Сам-то что думаешь, уважаемый? — спросил Мизак Сулеймана.
— Мне кажется, что кяфиры, словно крысы, орудуют внизу, под насыпью, через подземные ходы — и тащат все в город. Если такой лаз найти — можно по нему прекрасно проникнуть в город, почтенные. Я об этом каждый день думаю и вот до чего додумался, — все оживились, ведь старик воистину сказал доброе слово.
Правда, он тут же решил всех немножко поостудить, сказав, что пока его разведка на такие ходы не вышла, однако все равно рано или поздно найдет:
— Эти глупцы сами, чувствуется, сделали за нас изрядную часть работы, это тоже нам на благо!