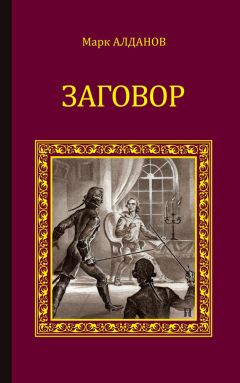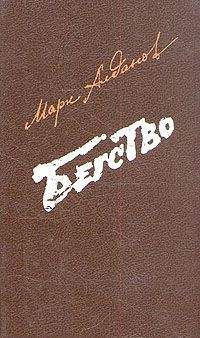Марк Алданов - Заговор
Холодный свет ноябрьского утра стал проникать в каземат. Штааль понемногу разглядел проделанное высоко в стене небольшое окно с решеткой, тяжелую дверь и табурет. За окном послышалось тонкое ржание лошади. Оно почему-то успокоило немного Штааля. Он вскочил и встряхнулся, с отвращением глядя на солому. Лишь теперь он заметил, как он был одет. Теплые вещи, которые он надел, уходя из дому, шинель с собольим воротником, черная казимировая конфедератка с мушковым околышком, были строжайше запрещены; они три года провалялись у него в шкафу без употребления. Штааль знал, в какую ярость приводили императора нарушения правил об одежде и какие строгие наказания за это полагались. «Ну, теперь моя песенка спета, — подумал он, проклиная себя, содержательницу притона и тех дьяволов, которые изобрели гашиш. — Попал в жерло ада… Вот что значит жить в стране с сумасшедшим царем!.. Эх, Марата бы на него…»
Штааль подошел к табурету и потрогал его руками. Словно он ждал, что здесь табурет окажется налитым свинцом или прикрепленным к полу, — он удивился легкости этого предмета. Штааль перенес его к окну, ступил на край одной ногой, оглянулся и бесшумно встал на чуть пошатнувшийся табурет, осторожно поднимая голову к решетке окна. О месте этом (называли его то Тайной канцелярией, то Тайной экспедицией) рассказывали всякое: часовые могли выстрелить в окно. Никто не выстрелил. Штааль припал лицом к решетке. Было уже довольно светло. Шел редкий, тотчас таявший снег. Окно выходило на небольшой двор, обнесенный бревенчатыми строениями и высоким забором. Во дворе стояла повозка, запряженная парой лошадей, какая-то странная, длинная и низкая, похожая на похоронные дроги. На козлах не было кучера. Сверху и с боков повозка была обтянута рогожами и перевязана веревками. Одна веревка висела незавязанной. Лошади жевали овес из мешков. Ничего страшного во дворе Штааль не увидел. Часовых вовсе не было. На завалинке у забора под навесом грыз семечки старик сторож. В луже, по которой расходились кругами редкие, тающие в воздухе снежинки, стояла на телеге с приподнятыми оглоблями большая бочка. Вид ее тоже произвел успокоительное действие на Штааля. В такой бочке в Шклове возили воду в училище. И весь двор имел мирный деревенский вид.
Штааль сошел с табурета, сел и опять задумался о своей судьбе. «Неужто жизнь может разбиться из-за пустяка? Ужель я погибну в цвете лет, в тот самый миг, когда наконец улыбнулась столь длительно неблагосклонная Фортуна?» Хоть Штаалю было вовсе не до литературы, он по привычке думал о своей несчастной судьбе книжными словами и оборотами. Он вспомнил о своем золоте, протянул руку к боковому карману и нащупал ключ. «Золото еще цело, но далее что?.. Что будет? Что им показывать? Эх, и вчера я наговорил лишнего…» Из случившегося с ним он всего хуже помнил то, что отвечал на допросе приказному: в момент его ареста дурман достиг, по-видимому, предельного действия. Штааль смутно помнил, что говорил он в очень повышенном тоне, предлагал немедленно вызвать князя Безбородко, канцлера Российской империи, ссылался на графа Палена, которого, кажется, назвал ближайшим своим другом. Он морщился при этом воспоминании. «Что Безбородко вызывал, это даже хорошо, значит, явно был не в себе. А насчет Палена, худо… Надо было вызвать Иванчука, ведь он здесь свой человек, и не такой же он, в самом деле, подлец, чтобы не помочь мне в беде… Так я и сделаю, когда опять позовут на допрос. Не могут не позвать… Не станут же они меня пытать, в самом деле? — успокаивал он себя. С некоторой неуверенностью он думал и о том, как поведет себя Иванчук. — Да нет, не такой же он, в самом деле, подлец», — повторял Штааль. Но уверенности, что Иванчук не такой подлец, у него не было, и злоба так и подступала у него к сердцу. Одновременно со злобой его одолевали покаянные мысли, которые в другое время могли бы быть приятны. Здесь он не мог извлечь удовольствия и из покаянных мыслей. Он думал, что он сам теперь недалеко ушел от Иванчука. Мысль эта очень не понравилась Штаалю. Он до того всегда был уверен, что между ним и Иванчуком целая пропасть и в моральном, и в умственном отношении. Штааль стал поверять мысленно: пропасти не было. «Да, характеры разные. Он хам, конечно, а я, что хотите, но не хам… Он и неуч, не читает ничего. Правда, и у меня Гиртаннерова „Революция“ который год лежит на столе… Прежде не то было».
Штааль вдруг вспомнил, как восемнадцати лет от роду проводил вечера в библиотеке Шкловского училища. Он ясно увидел перед собою крошечную книгу Байе о Декарте, изданную у вдовы Крамуази «avec privilège du Roy»[121], увидел «Discours de le méthode»[122] в сафьянном переплете и чуть надорванную снизу тонкую желтоватую страницу, с той фразой, которая когда-то так его потрясла: «C’est pourquoi sitost que l’aage me permit»[123] — и непривычное двойное «а» в слове «aage» опять его удивило, как тогда в Шклове. Штааль чуть не заплакал от горя в каземате Тайной канцелярии, как восемь лет тому назад от счастья и волнения по-настоящему заплакал над этой страницей в библиотеке Шкловского училища. Он подумал, что надо будет совершенно изменить жизнь, если удастся благополучно выйти из стрясшейся над ним беды. «Нет, что хотите, а таким, как Иванчук, я не стану, я и теперь не хам», — повторял он упорно. И со злостью думал, что спасение теперь может прийти к нему только от хама Иванчука.
За стеной послышались негромкие голоса. Штааль опять поспешно вскочил на табурет. Во дворе теперь были люди. Около лошадей суетился фельдъегерь, отвязывая мешки с овсом. Старик сторож у ворот снимал огромные замки с запоров. Двери одного из бревенчатых строений широко открылись. Штааль с тревогой переводил взгляд с этих дверей на повозку и обратно. Из строения стали выходить люди. Первым вышел человек с тростью под мышкой, в сплюснутой треугольной шляпе с пером, в перчатках с огромными раструбами. За ним, осторожно и тяжело ступая, два гвардиана несли носилки, покрытые чем-то белым. Они подошли к повозке. Фельдъегерь поднял и оттянул в сторону конец рогожи. Гвардианы стали вдвигать в повозку носилки. Штааль, крепко вцепившись в решетку окна, увидел замирая, что на носилках лежал человек. Труп?.. Нет, кажется, живой, шевелится… Он, что ж, привязан?.. Что же это такое? Да что они делают?..» Гвардианы и фельдъегерь поспешно отступили на несколько шагов. Человек в треуголке совсем вдвинул носилки под рогожу повозки и, нагнувшись над головой лежавшего, очевидно закрывая ее от других, вытащил из-под рогожи покрывало. Гвардианы засуетились над рогожей, зашивая концы и завязывая свободную веревку. Фельдъегерь полез на козлы. Сторож быстро отодвинул тяжелые засовы ворот. Человек в треуголке махнул тростью. Повозка тронулась.
V
Иванчук, на которого сослался Штааль, прибыл часа через два, к полудню. Гвардианы ввели Штааля в очень бедно убранную комнату, ничем не отличавшуюся от обычных канцелярских передних. Здесь тоже стоял смешанный запах краски и гнили. По стенам на длинных вешалках висели шляпы, шапки и шинели. За дощатым столом сторож мирно пил чай вприкуску. Он не встал при входе Штааля и сказал равнодушно:
— Велено подождать.
Через минуту вошел Иванчук. Штааль никогда в жизни так не радовался его появлению, как на этот раз. Увидев приятеля, Иванчук покатился со смеху. Но и смех его музыкой прозвучал для Штааля.
— Так это вправду ты? — наконец, перестав хохотать, спросил Иванчук. — В чем дело?.. Выйди-ка, Степан… Скажешь Макарычу, что я с барином остался, — приказал он почтительно вытянувшемуся при его появлении сторожу, на которого показывал глазами Штааль.
— Слушаю-с.
— Да у меня, видишь ли, случился на улице скандал с полицией… Как снегом меня осыпало, — сказал радостно Штааль, как только они остались одни. — Ты думаешь, беда невелика, дружище?
Он никогда прежде не называл Иванчука дружищем и сам почувствовал некоторую неловкость.
— Истории, мой любезнейший, бывают разные, — ответил Иванчук (он тоже никогда не называл Штааля любезнейшим). — И друзья тоже бывают разные… Иногда, значит, и Иванчук может пригодиться?
— Да ведь, правда, у тебя здесь есть приятели? — принужденно улыбаясь, сказал Штааль.
Иванчук великодушно хлопнул его по плечу.
— У меня, почтеннейший, везде есть приятели. Кое-кого, слава Богу, знаю и здесь (он назвал по имени-отчеству несколько человек, очевидно бывших хозяевами в Тайной канцелярии). Наконец, ежели тут заартачатся, то можно и патрону сказать, Петру Алексеевичу. В два счета освободят. Рассказывай живо, в чем дело. Как ты еще напроказил?
Штааль принялся рассказывать. Когда Иванчук узнал о выигрыше двадцати тысяч, он всплеснул руками и изменился в лице.
— Да не может быть! — воскликнул он.
В дальнейшем его лицо становилось все серьезнее, и из его переспросов уже как будто не вытекало, что Штааля освободят в два счета. Дослушав до конца, Иванчук нахмурился и, помолчав, сказал, что дело выходит много важнее, чем он думал.