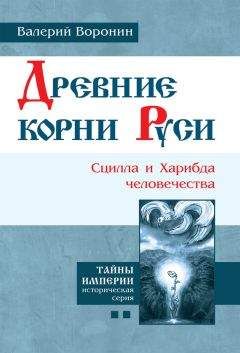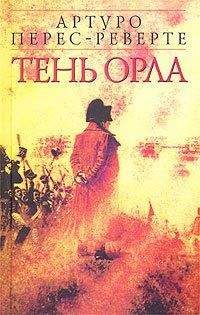Николай Платонов - Курбский
Он ничего не рассказал Острожскому, а на другой день попросил великого гетмана Ходкевича отпустить его на две недели домой, чтобы покончить с судебным делом о границах имения.
— Соскучился по панне Марии? — спросил старый гетман и прищурил правый глаз. — Если б я был на твоем месте, я просил бы не две недели, а месяц.
— Хорошо, я прошу месяц!
— Поезжай. Сейчас ты тут не нужен. Я дам тебе грамоту к тем, кто не выставил нужное количество воинов и коней. Когда будет нужно, вызову тебя гонцом. — Ходкевич потянул ус, нахмурился. — Я думаю, не в Москве и не здесь будет решаться наше дело, а на сейме. Поживем — увидим.
«Он согласился и еще добавил две недели, потому что не хочет, чтобы я проник в их замыслы, — думал Курбский, возвращаясь. — Значит, Никола Феллини прав?»
Острожский тоже уезжал из Вильно к себе в Киевское воеводство, и они вместе проделали путь до Ковеля, откуда Курбский свернул на дорогу в Миляновичи. Подъезжая ночью к своему имению, к темному дому, в котором спала Мария, он начисто забыл и Ходкевича, и иезуитов, и протестантов — всех, кто борется за впасть тайно и явно и не замечает, как прекрасна эта теплая летняя ночь.
3
Кони ступали неслышно по остывающей пыли, лечебной ромашкой и листвой тополевой дышал мглистый воздух, скрипел дергач в заболоченной низинке за мостиком через ручей. Дом, ограда, купы тополей — все спало, темное и высокое. «Сейчас я увижу ее!» Взлаяли за оградой псы, зажегся огонек в сторожке, заскрипели шаги по крыльцу.
— Отворяй князю! — крикнул Мишка Шибанов. Но ворота не отворяли. — Отворяй, князь приехал!
— Будет врать-то! — басом сказал кто-то из-за ограды, — Вот как запалю из пищали по вашему князю! — И все услышали, как бьют по кремню кресалом, чтобы зажечь фитиль.
— Отворяйте, это я! — крикнул Курбский. — Не узнали?
За воротами возникло шептание, сумятица, но тот же бас сказал:
— Князь в Вильно, а княгиня не велела ночью никому отворять.
— Да ты кто? — крикнул Курбский. — Вот войду — прикажу дать тебе плетей! Отворяй, собака!
— Я княгини Марии Козинской человек и князя не знаю, а служу ей.
— Позови Калиновского, разбуди, вы что, белены объелись?!
Наконец ворота открылись, и всадники въехали во двор, смеясь и ругаясь. Курбский бросил поводья Мишке и как был — весь пропахший пылью, кожей и лошадиным потом — пошел на половину княгини. Он сбросил на пол кафтан, шапку, отворил дверь в спальню — качнулся огонек светильника, кто-то теплый, мягкий вскрикнул, ткнулся ему в грудь и выскочил в коридор — Александра-камеристка? — а на кровати из раскиданных подушек поднялась белая простоволосая Мария, и он замкнул ее в объятия, стал целовать волосы, лицо, шею. Он не понимал, что она спрашивает, потом разобрал: «Как ты здесь оказался?» — и отпустил ее, сел. Принесли свечи, он смотрел на нее, улыбался, качал головой.
— Чего это вы и пускать не хотите? Напугал кто?
— Я так велела, как ты уехал.
— Кто это басом меня стращал? Твой человек?
— Я вызвала его из своего поместья и еще двух верных слуг.
— Правильно! Но плетей он мог отведать! Разбудил? Ах ты, Бируте моя!
— Не говори так. Почему ты приехал?
— Потом расскажу. Вели нагреть воды — помоюсь, баню истопим завтра…
Он смотрел на нее и вертел в пальцах какой-то пояс. Она тихонько потянула пояс, к себе, он не выпустил, взглянул: это был мужской шерстяной кушак, плетеный, красно-бело-синий, с кольцевой пряжкой. Кушак был потерт на сгибах.
— Это Ян забыл. Дай сюда! — сказала она.
— Какой Ян?
— Ян Монтолт, мой сын. Или сыну нельзя навестить мать?
— Почему нельзя? Как ты тут, Мария? Я так скучал без тебя! Зря я поехал — нечего там делать: войны нет, одни споры и интриги. А ты как?
Она не сразу ответила: ее гибкие пальцы свивали и развивали цветной кушак — и внезапно Курбский сжался, застыл, как тогда, на речке, когда он шел босиком по тропке к воде и перед самой ногой шмыгнула в траву толстая пестрая гадюка: только что он весь был в прохладном покое речной поймы, в предвкушении купания, песчаного дна, мягкой воды, шелковистых водорослей — и все исчезло, остались омерзение и страх.
Он посмотрел на ее склоненную голову, на нежную шею и пушистый висок, и ему стало мучительно стыдно.
— Иди сними эту одежду, я встану и прикажу все сделать, — сказала она и отбросила кушак на кресло. — Иди же!
Он вышел, и усталость внезапно легла на плечи; заныла поясница, больно было шагать ногам, стертым в паху седлом. Ему не хотелось даже умываться.
Курбский проснулся в полной темноте, только в углу дрожал какой-то розоватый отсвет. Он протянул руку, но не нашел тела Марии — пальцы ткнулись в жесткий ворс шкуры, и он изумился: «Где я?» Он почему-то был не с ней, а на медвежьей полости в своей библиотеке; он зашел сюда после того, как умылся и переоделся; в беличьем халате, в чистом исподнем стало уютно, по-домашнему безопасно, он велел подкинуть дров в открытый очаг-камин, выпил чашу пива и задержался, разглядывая, раскладывая рукописные книги, привезенные из Вильно. А потом только прилег на шкуру, стал смотреть в огонь и незаметно уснул. Она ждет его, сердится, недоумевает, но ему не хотелось шевелиться: розоватые глазочки — потухающие угольки — съеживались, бледнели под пеплом, в доме стояла полная немота ночи, вот угас один глазочек, вот-вот угаснет другой… Ему было чего-то жаль — углубленно, печально, как от протяжной ямщицкой песни на бесконечной зимней дороге; потряхивало на выбоинах, побрякивали бубенцы, уходила, уплывала мутно-белая бесконечная степь. Он ни о чем не думал, никого не вспоминал, он погружался в печаль все глубже, дальше, освобождаясь от тела, от сухого, колючего и злобного бытия, никчемного, бессмысленного. Только там, куда вела эта печаль, был смысл, светлый и скорбный, чистый, как привкус снега на обветренных губах. Еще один глазок-уголек сжался, потускнел, потух, остался еле заметный отсвет — кто-то был жив, но ненадолго, а потом только искра вспорхнет к темному небу и растворится в нем… Он ждал, когда это будет, но не дождался — заснул.
Утром он встал бодрым, освеженным. Мария не вышла к завтраку. «Госпожа немного нездорова», — сказала присланная Александра-камеристка и залилась румянцем. Приятно было смотреть на ее золотистую головку, на полудетские движения и смущенные голубые глаза.
— Что ж, княгиня благословила вас с Михаилом? — вспомнил Курбский.
— Нет, — сказала она и потупилась, краснея еще больше. — Я сама не захотела! — И она диковато, странно глянула на него, закрылась локтем и выскочила из комнаты.
Почему-то он совсем не рассердился, даже был доволен. После завтрака он зашел к жене. Она лежала в постели и читала молитвенник, на столике стоял ее ларец с крестом, Библией в роскошном переплете и частицами мощей, а рядом — чашка с горячим молоком. Он наклонился и поцеловал ее в лоб, а она обняла его за шею, провела ладонью под воротом сорочки, тревожно спросила:
— А где мой амулет?
— Вчера мылся и снял. Да зачем он мне здесь, когда ты сама со мной?
— Не смейся над этим. Если б не этот амулет, ты не вернулся бы так быстро…
Она задумалась, глядя мимо него светлыми непроницаемыми глазами, крохотная складочка меж бровей недоумевала, сердилась. Он поцеловал эту складочку, и Мария отклонила лицо, натянула одеяло.
— Пойду пройдусь по хозяйству. Когда, говоришь, здесь гостил твой сын?
— Почему ты спрашиваешь?
— Потому что Василий Калиновский его не видал. А это значит, что сам он или пьян был, или отлучался. Ты знаешь, что я на него оставил охрану Миляновичей. Вот я ему дам!
Она задумалась:
— Калиновский никуда не отлучался, но он не мог видеть Яна — сын навестил меня тайно.
— Тайно?!
— У него была стычка с ратманом Владимирского повета, и пришлось временно покинуть свой дом. — Она отодвинулась, чтобы лучше видеть лицо мужа. — Прошу тебя, не говори никому, что он здесь был.
— Хорошо. — Курбский слегка нахмурился. — Но не забывай, что я здесь наместник короля и…
— Мне ты можешь поверить: он ничего не сделал — убил нечаянно какого-то холопа, и все.
— Ну если только холопа… Но в следующий раз пусть будет осторожней и не прокладывает след в мой дом!
— Разве это только твой дом?
Она смотрела мимо, голос был бесстрастен, но он знал, что это значит.
— Мой и твой, не сердись. Все мое — это твое, ты же знаешь.
Она не ответила, потянулась, запустила пальцы в волосы на его затылке, притянула его голову и впилась губами так, что он все забыл.
К вечеру она была здорова, и они выехали, как обычно, прогуляться. Теперь, правда, их сопровождали слуги: стременной Мишка Шибанов и новый конюх Марии — черноволосый угрюмый юноша из галичан. Его звали Ждан.