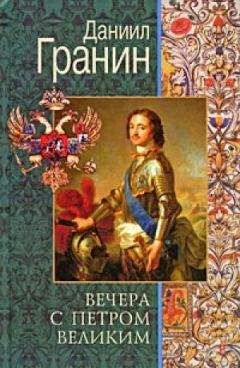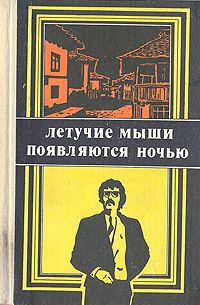Георгий Гулиа - Фараон Эхнатон (без иллюстраций)
«…Вот стоят два царедворца перед его величеством, и языки у них ворочаются медленно, точно после многих выпитых чарок крепкого пива. С большой неохотой поворачиваются в мою сторону. Но они знают все, только не признаются. Их собачий нюх чует все, но собаки эти не скулят и не визжат от радости. Эти хитроумные царедворцы прикусили языки до поры, до поры, до поры…»
– Что же молчишь ты, Пенту?
– Твое величество, я думаю.
– О чем же?
– О твоем справедливом гневе.
– И – что же?
– Мудрость твоя, о царь, непогрешима, и воля твоя, словно камень базальт. Я бы хотел поразмыслить еще немного, прежде чем скажу то, что хочу сказать.
– А сейчас не можешь?
– Мне надо нанизать песчинки мыслей на невидимую нить моих рассуждений. Чтобы мог изложить их твоему величеству без запинок, ибо стар становлюсь и слова исчезают из головы, подобно листьям в пору увядания.
Фараон сощурил глаза до предела. Они превратились в одну узкую линию, выведенную рукою скриба, В эти мгновения он обычно сверлил взглядом собеседника, пытаясь проникнуть в тайники его души. Он тряхнул головой:
– Ладно! Перенесем этот разговор на другое время. Ты, Пенту, получше обдумай свою мысль. И посоветуйся с Хоремхебом. – Фараон бросил взгляд на Кийю. – Поговори с ним. Он человек храбрый… Сейчас же – вот что: ее величество Кийа будет моей соправительницей. Когда и как мы сообщим об этом из Окна явлений? Я бы хотел услышать ваш совет.
Пенту склонил голову в знак покорности. И так, не подымая ее, сказал:
– Твое величество, воля твоя безгранична. Одно дуновение уст твоих…
– Перестань! Говори прямо.
– Твое величество…
– Прямо!
Пенту поднял голову, чуть даже запрокинул ее назад. И – будь что будет! – выложил свою краткую мысль:
– Это невозможно, твое величество. Соправительница должна быть объявлена царицей ритуально. Согласно заведенному порядку…
Фараон перебил его:
– Кем и когда заведенному? Я такого порядка не заводил. Ибо впервые назначаю соправительницу.
– Воля твоя.
Фараон остановил его мановением руки:
– Нет, нет, я хочу, Пенту, выслушать все твои доводы, а может быть, и откровенные возражения.
– Для этого, твое величество, я должен знать немного больше того что знаю.
– Ты знаешь все!
– Я?
– Да, ты.
Пенту, по обычаю, перенятому у вавилонян, приложил руку к своему сердцу: дескать, говорю от души, чистосердечно:
– Неужели, твое величество, в таком искусстве, как управление великим государством Кеми, я должен руководствоваться догадками или подсказками моего сердца? Если у меня требуют советов, то не должен ли я досконально разобраться в том деле, которого касаюсь? Наше государство требует железной руки. Однако это вовсе не значит, что должна направляться рука людьми малосведущими. Ты, твое величество, есть светоч, освещающий деяния всех и каждого в отдельности Мы, твои недостойные слуги, призваны сообщить твоим божественным мыслям и повелениям тот единственно возможный смысл, который делает их зримыми и ощутимыми. Короче: мы – землекопы, делающие маленькое, но весьма нужное дело. Согласно слову твоему.
– И что же из этого следует?
– Я, твой верный слуга, обязан понимать своим маленьким умом…
– Разве ты не понимаешь?
– Не все, твое величество, не все.
Кийа неожиданно приняла сторону Пенту:
«…Этот старик не такой уж непонятливый и несчастный слуга, каким представляется. Но в самом деле, почему бы не сказать ему все, чтобы он понял все? Чтобы без оговорок. Как известно, эти оговорки очень важны для чиновников в их игре, которую ведут повседневно…»
– Твое величество, – сказала вслух Кийа, – Пенту прав в одном отношении: он хочет услышать из твоих уст нечто, что рассеет его сомнения.
– Истинно, истинно!
– Ты думаешь? – проговорил фараон, недоверчиво скашивая глаза на царедворцев.
– Да, – твердо ответила Кийа.
Фараон раздумывал всего одно мгновение: как всегда, когда хотел сообщить давно предрешенное, давно дозревшее в его неспокойной голове. Затем порывисто обнял за плечи Кийю и провозгласил тихим, но властным голосом:
– Объявляю вам, Пенту и Маху, что отныне она становится моей женой – притом единственной – и объявляется соправительницей моей на троне священном Верхнего и Нижнего Кеми. Пусть моя безграничная любовь к ней побудит вас обоих, а через вас и всех моих слуг к полному и безоговорочному возвеличению ее величества Кийи. – Фараон передохнул и спросил: – Что я должен сказать еще или сделать для того, чтобы ни ты, Пенту, ни ты, Маху, больше не ссылались на свою неосведомленность?
Фараон и на этот раз показал себя человеком решительным, лишающим себя всех путей для отступления и мгновенно вносящим ясность в любую затею.
Пенту и Маху склонились в знак безграничного повиновения. Его величество выждал немного, а потом сказал:
– Теперь вы знаете все, и вам поручается соответственно обставить появление ее величества – моей соправительницы – в Окне явлений.
Его величество, не выпуская из объятий Кийю, направился к двери, ведущей к внутренним покоям. Когда умолчли шаги, царедворцы стояли еще некоторое время без движения, как бы пораженные величием происшедшего. К тому же они чувствовали на себе тайные взгляды: за ними, несомненно, наблюдали.
Пенту поднял руки вверх, к потолку, и воскликнул:
– О великий Атон, храни для нас всемогущего и мудрого владыку нашего!
В голос ему повторил эти слова и Маху, присовокупив:
– .. Всемогущего, всемудрейшего, благого бога нашего!
И оба поцеловали следы ног его величества и следы ног ее величества. И, счастливые, попятились к выходу, словно бы царь и царица все еще стояли перед ними.
В северном дворце
Принцесса Меритатон нашла царицу тихо грустящей. Она сидела в самом углу любимой комнаты, расписанной по рисункам Бека. Это был сад, благоухающий сад в месяц эпифи. На стонах – сочная зелень На потолке – зелень, сквозь которую проглядывает небесная просинь. А на полу – вода: живая вода, переливающаяся голубыми и бесцветными волночками. Словно кинули камешек в этот чистый пруд. А в воде – рыбы: угри, карпы, сомы, толстомордые и злые, как азиаты, щуки. Даже в знойную пору здесь, в этой комнате, кажется прохладно: так живо, так натурально сработали живописцы этот сад из мертвых красок.
Царица сидела на циновке, поджав ноги и облокотясь на расшитую золотом подушку. Она была красивой, как всегда, и внешне спокойной, как всегда.
Меритатон, которой уже минуло пятнадцать, кивнула мужу, стоявшему за порогом, и они вошли чуть ли не на цыпочках. В комнате было темно – горел всего лишь один светильник. Стояла сумеречная тишина, когда в ушах звенит от тишины и стучит сердце от тишины.
Принцесса обняла мать и опустилась рядом. Семнех-ке-рэ уселся на низенькую скамью. Молодой человек, казалось, только что перенес тяжелую болезнь: лицо его было бледным, глаза – добрые мальчишечьи глаза – лишены блеска. Широкие скулы и правильной формы нос отражали словно бы два начала: мужское и женское, суровое и нежное.
– Мама, – сказала принцесса, касаясь рукой руки царицы, – не надо… Не грусти…
– Не могу, – прошептала мать.
«…Дочь пытается успокоить мать. Кому это под силу? Разве ее величество нуждается в утешении? Она слишком велика для этого. Она слишком сильна для этого…»
Семнех-ке-рэ припомнил случаи, когда царица сама ободряла других, даже фараона. Именно царица внушала его величеству твердость и решимость, когда порою они покидали болезненного фараона. Неужели же настал черед, чтобы утешать ее величество, говорить ей слова, которым никто не верит и которым нельзя поверить? Сокол всегда должен быть готовым к падению. С самой большой высоты! Падение, а не взлет делает сокола соколам, а иначе это – воробей, купающийся в пыли. О чем говорить с царицей? Или сидеть вот так, точно перед тобой покойник?.. К счастью, – как это бывало не раз – пришла на помощь слабая и могучая женщина. Ее величество. Она спросила:
– Что во дворце? Что говорят?
– О чем, мама?
– Обо мне, например.
Меритатон полагает, это надо держаться только правды, даже в эту тяжкую минуту. Этому учил ее отец. Так воспитывала дочерей царица.
– Многие сочувствуют тебе. Но прилежно падают ниц перед соправительницей…
Ей не хотелось произносить это ненавистное имя: Кийа! Царица уставилась в одну точку – листочек винограда, такой свежий и яркий. Что она читала на нем? Чей ей виделся образ?..
– Нет, – сказала она.
– Что – «нет»?
– Никто мне не сочувствует И мне этого не надо! Гроздь, упавшая наземь, – уже не виноград.
– Мама…
– Выслушай меня до конца. Всякое сочувствие к себе – отвергаю! Сочувствовать надо не мне, но Кеми. Я думаю о том, что дальше. Надо думать о боге, великом Атоне. Он должен жить в сердце всего Кеми незыблемо. Надо думать о том, что будут делать наши воины на границах Кеми. Надо думать о том, что собираются делать служители Амона, не сложившие оружия. И о том – а это главное, – каково течение мыслей его величества. И соправительницы.