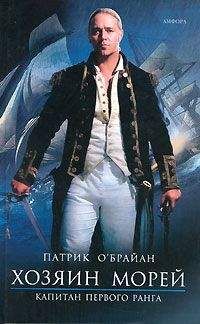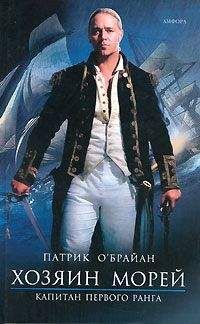Валерий Замыслов - Иван Болотников Кн.2
— Лишь бы впрок, служивые. Ничего для вас не пожалеем, коль за мужика стоять надумали.
Не только войско кормили, но и сами в него гуртом вливались. Едва ли не две трети дружины из мужиков-севрюков да холопов.
«Нет, не бывало такого на Руси. Ишь как народ за волю поднялся! И в том сила, сила великая!»
Вышел из шатра и направился к ратникам.
— Отдохнул бы, Иван Исаевич, — участливо молвил стремянный.
— Ночь будет, — отмахнулся Болотников.
— Непоседлив ты, батько. Чую, и когда Москву возьмешь, покоя не изведаешь.
— Это отчего ж? — остановился Болотников. — Тебе-то откуда знать?
— Да уж знаю, — хмыкнул Устим Секира. — В Диком Поле завсегда казаков тормошил, а уж на Москве и подавно лежнем не будешь. С царем Дмитрием Иванычем начнешь боярские порядки рушить. А дело то нудное, тяжкое. Не так-то просто бояр из судов и приказов выбить.
— Выбьем, выбьем, Секира! — веско бросил Болотников и, больше не останавливаясь, зашагал к дубраве. Здесь разместился большой пушкарский наряд под началом Терентия Рязанца. Возле дубравы паслись кони — огромный табун в добрую тысячу. Под Кромами же их было гораздо меньше.
Терентий Рязанец, прибыв со Дикого Поля, тотчас заявил:
— Мало лошадей, Иван Исаевич. До Москвы не дотащимся. Наряд!
Наряд, и в самом деле, был немалый: десятки осадных, полковых и полевых пушек, бочки с порохом, ямчугой и серой, две тысячи чугунных ядер, походные кузни…
Да и мало ли всякой оснастки в громоздком пушкарском хозяйстве!
Рязанец запросил еще с полтысячи коней.
— Иначе не поспеть мне за войском, Иван Исаевич. Сам посуди — далече ли без запасных коней уедешь? За неделю на сто верст отстанем, худо то.
— Вестимо, худо, — кивнул Болотников. — Войску без пушек не ходить. Будут тебе кони, Терентий Авдеич.
Пришлось вновь идти на поклон к мужикам. Севрюки и на сей раз не поскупились.
— Для тебя ничего не жаль, воевода. Лишь бы с неправедным царем поуправился.
С Терентием Рязанцем прошелся по всему наряду. Похвалил:
— Покуда урядливо, голова. Вот так бы до самой Москвы.
Среди пушкарей Болотников увидел Афоню Шмотка; тот сидел на телеге и, клятвенно ударяя себя кулаком в грудь, восклицал:
— Разрази меня гром, ребятушки, было!
Пушкари гоготали, а Шмоток, войдя в раж, продолжал бакульничать:
— Это что, православные, чудней было. Как-то в лесах жил, медку захотелось. Пошел бортничать. Авось, мекаю, медку сыщу. Нашел! Мотрю, древо с дуплом, а над дуплом пчелка вьется. Тут-то уж наверняка медком разговеюсь. Сермяжку скинул — и шасть на дерево. В дупло руку сунул. Нетути! А пчелка вьется, так и норовит ужалить. Чего, мекаю, ей зря кружить? Тут медок. Лаптишки скинул, ноги в дупло свесил. И тут, братцы мои, — Афоня протяжно вздохнул, скребанул, прищурив левый глаз, затылок, — проруха вышла.
— Аль пчела в зад дробанула? — хохотнул один из пушкарей.
— Кабы пчела, — вновь горестно вздохнул Шмоток. — Тут братцы, такое, что и во сне не привидится… Сук оборвался. Со всеми потрохами в дупло ухнул.
— Да ну?! — разом воскликнули пушкари.
— Вот те крест! — вытаращив глаза, истово окстился Афоня. — Будто в трясину. Увяз в меду по самое горло. Тужусь выбраться — ан нет! Ухватиться не за что, дупло склизкое. Намертво засел. Пригорюнился, православные. Вот те и разговелся медком, дуросвят! Теперь сам господь бог не поможет выбраться, околею в дупле. Подыму глаза — небо с овчинку, слезой исхожу. Уж так жаль с белым светом прощаться… День сижу, другой, медком подкармливаюсь. До одури наелся. На третий день слабнуть начал. Голова тяжелая, будто дубиной шмякнули. Сон морит. Смертный сон… С бабой своей распрощался, с ребятенками, с мужиками. Не поминайте лихом бобыля Афанасия, в храме помяните! Прощаюсь эдак с миром, и тут вдруг чей-то рев заслышал. Тихий такой, урчащий. Да это, кажись, медведь к древу пожаловал. Так и есть! К дуплу полез, сучья трещат, шум на сто верст. Никак матерый медведище. Залез, лапу в дупло сунул. Пошарил, пошарил да как рявкнет. Осерчал: медку не загреб. Мотрю, заднюю лапу свесил. Меня ж думка прострелила. Была не была, Афоня! Хвать архимандрита за лапу да как заору: «Тащи, Михайло!» Медведь испужался, из дупла сиганул что есть духу. Меня на свет божий выкинул. Я-то, православные, на сучке червяком повис, а Топтыгин наземь кубарем свалился и в лес стреканул. Только его и видели.
— Н-да, — зачесали затылки пушкари. — Ловок же ты брехать, дядька Афанасий.
— Сумлеваетесь, православные? — разобиделся Афоня. — Да провалиться мне в преисподню, коль вру! Да жариться мне на сковороде дьявольской! — увидел за пушкарями улыбчивое лицо Болотникова, спрыгнул с телеги, затормошился, расталкивая ратников. — Удостоверь, воевода! О том все наши богородицкие мужики наслышаны, Чать, те сказывали?
— Сказывали, — посмеиваясь, кивнул Иван Исаевич. — Было то с Афоней.
Шмоток, довольный воеводским словом, вновь вскочил на телегу.
— Это что, православные. А то был случай…
Но рассказать Афоне не довелось: к Терентию Рязанцу, покосившись на Болотникова, ступил молодой пушкарь Дема Евсеев.
— Надо бы к обозу сходить, Терентий Авдеич.
— Что там?
Дема вновь глянул на воеводу, замялся.
— Сходить надо бы… Тут, вишь ли, какое дело. Мужики… Идем, Терентий Авдеич.
— Ты чего вокруг да около? Сказывай! — строго произнес Болотников.
Лицо пушкаря чем-то напоминало воеводе донского казака Емоху, славного, отважного повольника, взорвавшего себя вместе с турецкой галерой под Раздорами. Схож лишь глазами и носом, но не нравом своим. Тот был горяч и порывист, осторожничать не любил.
— Прости, воевода… Не шибко ладно в обозе. Мужик Сидорка Грибан семерых коней уморил.
— Как это уморил? — повысил голос Рязанец. — Да мне каждая лошадь дороже злата. С чего бы это они вдруг сдохли?
— А поди разберись, — развел руками Дема. — Намедни покормил, и всех будто холера унесла. Чудно, право.
— А ну пошли! — нахмурился Болотников.
Еще издалека заслышали шум. Зло, отчаянно ругались обозные мужики:
— Выпустить из него кишки, прихлебыш боярский!
— Удавить на вожжах!
Взметнулись кулаки, кнутья.
— Погодь, погодь, ребятушки! — зычным выкриком остановил мужиков Болотников.
Подвода. Вокруг — сдохшие лошади. На подводе лежит связанный Сидорка. Широкогрудый, горбоносый, заросший до ушей сивой нечесаной бородой. Глаза угрюмые, затравленные.
— Развязать, — приказал Болотников.
Развязали. Грибан сполз с телеги, поклонился.
— Нет на мне вины, воевода. Не морил лошадей.
— А это чья ж работа? — наливаясь гневом, повел глазами по мертвым коням Иван Исаевич.
— Не ведаю, не брал греха на душу. Завсегда берег лошадушек. Нет на мне греха! — с мольбой в глазах горячо произнес мужик.
Обозные вновь взвцлись:
— Не слушай его, воевода! Кони еще поутру живы были.
— Зелья подмешал, собака!
Лицо Болотникова ожесточилось, рука невольно потянулась к сабле. В одночасье кони не дохнут, уложила их подлая рука лазутчика. А давно ли, кажись, вывели на чистую воду «святого отца» Евстафия? Тот, вместе с сообщниками, рать крамолой мутил, царя Дмитрия Иваныча «беглым расстригой» называл. Теперь же за лошадей принялись, и не где-нибудь, а в пушкарском обозе, в самом нужном для войска месте. Наряд без коней — дохлое дело.
— Давно ли эта паскуда в обозе?
— Пятый день, воевода, — отвечали мужики. — Чу, с московского уезду к нам прибежал. От боярских неправд-де утек, лихоимец! Поверили, к походной кузне было приставили. Сидорка же к лошадям попросился. Дело-де свычное, всю жизнь за сохой ходил. Вечор закрепили за ним десяток лошадей. И вот дорвался, аспид!
Болотников еще ближе ступил к лазутчику!
— В мужичью дерюжку облачился, боярский оборотень! За сколь же серебреников Шуйскому продался?
В облике Сидорки разом что-то изменилось, глаза его дрогнули.
— Нешто тот самый?.. Постарел-то как, Иван Исаевич. Едва признал. Вон ты какой ныне, — глянул воеводе на ноги, усмехнулся. — Давно ли лапти-то износил?
— О чем ты? — резко и отчужденно бросил Болотников.
— Не признал, — протянул Сидорка. — Да и мудрено ли? Вон сколь годков минуло. Когда-то ты у меня в избе ночевал.
— В избе? — Болотников взламывает морщинами лоб и, еще раз зорко глянув на мужика, вдруг со всей отчетливостью увидел себя на лесной опушке середь крестьян, справлявших обряд «христовых онучей». Мужики злы, недовольны, понуро сетуют на горегорьскую жизнь.
Сидорка! Обозленный на бояр Сидорка из сельца Деболы. Крестьянин Сидорка, подаривший ему свои новые лапти.
Молвил тогда на прощанье:
«Спасибо за обувку, друже. Даст бог, свидимся».
И вот надо же так судьбе распорядиться. Свиделись!