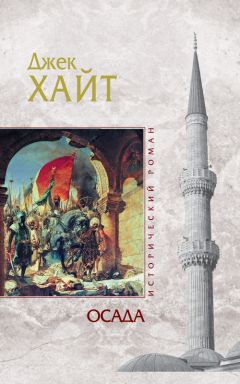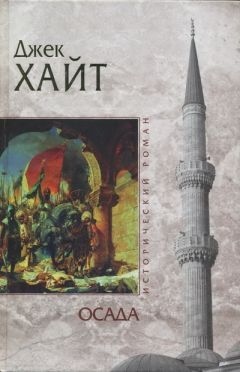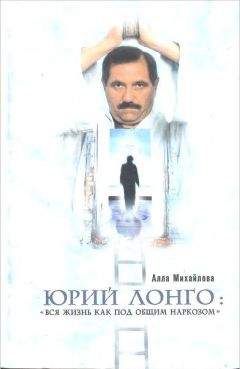Гюг Вестбери - Актея. Последние римляне
Хотя она и была жрицей, а теперь женой философа, но женский инстинкт подсказал ей, что ее общество приятно трибуну, прежде чем он сам догадался об этом. Она знала себя и его; он был вернейший друг, который скорее сто раз наложил бы на себя руки, чем позволил бы себе малейшее оскорбление своему благодетелю; что касается Паулины, то в ее благородной натуре не было и тени порочности, и не существовало такого мужчины, который мог бы заставить ее пульс биться скорее, чем обычно.
Субрий скоро заметил, что Паулина интересовалась всем, что говорилось и делалось в Риме. Он сам чувствовал позор правления Нерона. Его римская натура возмущалась грубым фарсом, разыгравшимся под управлением этого скомороха, его любовниц и любимцев. Он с полной откровенностью изливал свое негодование перед Паулиной. Постепенно Паулина составила себе представление о недовольных элементах римского общества.
Нерон под влиянием Поппеи и недостойных любимцев вроде Тигеллина окончательно распустился, и с каждым днем наживал новых врагов своим развратом, жестокостью и сумасбродством. Пожар, в котором народ обвинял его, несмотря на казни невинных христиан, до некоторой степени сплотил недовольных. Простонародье было разорено, патриции вечно в тревоге, и даже самые смирные люди начинали говорить, что, если государство не уничтожит Нерона, Нерон уничтожит государство.
Субрий сообщал обо всем этом Паулине. Ее честолюбивые мечты, никогда не исчезавшие вполне, все более и более оживали, и она начинала думать: «Если Сенека не хочет сам нанести удара, то я должна сделать это за него».
Под ее влиянием недовольство Субрия превратилось из бесплодных жалоб в угрозу. Тогда Паулина решила, что боги посылают ей готовое орудие.
Однажды, после обеда, Сенека читал своим друзьям небольшой трактат, только что оконченный им, а Паулина и Субрий прогуливались по саду. Дойдя до небольшой мраморной беседки, Паулина вошла в нее; Субрий последовал за нею. Она уселась на скамейке и прислонилась к мраморной колонне, охватив руками затылок, чтобы защитить голову от холодного камня. В этой позе ее величавая фигура выступала особенно рельефно и лицо, обращенное кверху, казалось прекраснее чем когда-либо. Честность трибуна подвергалась величайшему испытанию; ему захотелось броситься перед ней на колени и целовать ее ноги. Она казалась ему воплощением благороднейшего идеала сероокой Минервы, и ему пришла в голову странная мысль, что у Париса был прескверный вкус[27].
Он только что рассказал ей о новой выходке Нерона, а когда они вошли в беседку, сообщил, что негодование и раздражение растут среди преторианских войск, жалованье которым задерживается, между тем как на постройку Золотого дома ухлопываются миллионы сестерций. Он прибавил, что воины, проклинают императора, который добивается славы в цирке и ни разу не выходил на поле битвы.
Паулина устремила свои холодные глаза на солдата и медленно проговорила:
— Я только женщина, и многое недоступно моему пониманию. Неделю за неделей, месяц за месяцем слышу я рассказы об этих бесчинствах и преступлениях, и начинаю думать, что в Риме не осталось ни одного мужчины.
Солдат покраснел при этих обидных словах.
— Ты жестока, — сказал он, — я думаю, что еще осталось несколько мужей, но что они могут сделать?
— Поступить мужественно! — быстро ответила она. И не спуская с него глаз, продолжала: — Я помню, как однажды бешеная собака ворвалась в дом моего отца. Испуганные рабы разбежались, но мой отец схватил дубину, бросился на бешеного зверя и нанес ему смертельный удар: он не хотел оставить жену и детей на произвол бешеного животного — он был мужчина.
Субрий встал и ответил с глубоким волнением:
— Довольно, госпожа. Ты требуешь моей жизни; если б у меня была их дюжина, они все были бы к твоим услугам.
Едва заметная улыбка мелькнула на губах Паулины.
— Я не требую и не имею права требовать твоей жизни, — сказала она ласково, — и ты не должен предлагать ее мне, но я хочу, чтобы всякий, кто дорожит моей дружбой, помнил, что он римлянин.
Солдат, оставив недомолвки, решился говорить откровенно.
— Как же должно совершиться это дело. — сказал он, — тайно или открыто?
Она отвечала с некоторым нетерпением:
— Может ли женщина решить этот вопрос? Открытое восстание лучше, но так или иначе, а дело должно быть сделано.
— Одно необходимо для успеха, — сказал Субрий, — руки есть, но где найти голову? Укажи нам предводителя.
— Ты сам будешь им, добрый Субрий! — воскликнула она ласково, наклоняясь к нему.
Трибун покачал головой.
— Нет, — возразил он, — кто согласится пойти за ничтожным преторианским офицером? Нам нужен вождь совсем иного рода. Пусть будет… — И он прошептал имя Сенеки.
— Нет, нет! — воскликнула она. — Какие вы мужчины герои, если не можете обойтись без старика, если усталый мозг должен быть вашим руководителем и дряхлее тело щитом. Нет, Флавий, я не хочу, чтобы вы отняли у меня моего мужа.
— Но кто же еще в Риме может заменить его? — спросил трибун.
Она помолчала с минуту, потом сказала задумчивым тоном:
— Я много наслышалась о Кае Пизоне, он знатного рода, тщеславен, честолюбив и смел. Он готов на все и неразборчив в средствах. Его пороки скорее нравятся, чем возмущают народ. Пусть он будет вашим вождем.
— Ты хочешь провозгласить Кая Пизона императором? — спросил он с изумлением.
— Да сохранят нас боги от этого! — воскликнула она. — Нет, я не хочу, чтобы Кай Пизон сделался императором. Я сказала: «Пусть он будет вашим вождем».
Уходя, Субрий думал: «Я убью Нерона, и Сенека будет управлять миром; Рим выиграет от этого, но я…»
Он заставил себя не думать об этом и — пошел в преторианский лагерь.
XXVI
Субрий Флавий отправился к знакомому офицеру, который в эту ночь пригласил на обед некоторых товарищей, в том числе Фения Руфа, капитана преторианской гвардии.
Бедный Субрий вовсе не был расположен к веселью; он предпочел бы отправиться домой спать; но собрание смелых и недовольных офицеров казалось ему подходящим, чтобы начать отчаянное предприятие.
Он был очень рассеян; товарищи заметили это и подшучивали над торжественным выражением его лица.
— Трибун влюбился! — воскликнул один из присутствующих, бойкий молодой центурион.
Субрий взглянул на него со смущением и густо покраснел. Заметив, что эта шутка ему неприятна, хозяин тотчас переменил разговор: римские офицеры были любезными и утонченными.
«Я никогда больше не увижу ее, — думал Субрий, — а она и не вздохнет обо мне. Великий Юпитер! Какой жестокой может быть лучшая из женщин. Стоит ей полюбить кого-нибудь и ради любимого человека она предает на муки и смерть себя, лучших друзей, кого угодно».
Фений Руф, начальник отряда преторианцев, и префект Тигеллин от души ненавидели друг друга. За несколько дней до этой пирушки Фений сообщил императору; что если войска не получат жалованья, то наверняка поднимут бунт. Император был очень недоволен этим известием, а Тигеллин, раздувая его неудовольствие, намекнул, что начальник обманывает его, желая прикарманить деньги. Однако Нерон очень хорошо понял тайные побуждения своего любимца и щедро заплатил преторианцам с тем проблеском благоразумия, которое нередко замечалось у него. Простые воины на время угомонились, но среди офицеров недовольство росло.
За обедом выпили немало вина, и языки развязались. Компания была очень весела, и недовольство, господствовавшее в военных кружках, выражалось в остротах и насмешках.
Имя Тигеллина вызвало краску гнева на лице Фения, и хозяин, заметив это, весело воскликнул:
— Стоит ли о нем разговаривать! Пью за здоровье нашего грозного императора.
— Чей голос заглушает громы Юпитера! — заметил один из гостей.
— Украшение цирка! — засмеялся другой.
— Утеха публичных домов!
— Аполлон!
— Геркулес!
— Марс!
— Щедрый Плутон!
Обмениваясь этими шутками, сопровождаемыми взрывами смеха и чоканьем, гости выкрикивали тосты.
Только Субрий Флавий угрюмо молчал, и тогда, как другие осушали кубки, он не притронулся к своему.
— Как, Флавий? — заметил Фений с притворной строгостью. — Ты не хочешь пить за здоровье нашего великого Императора?
— Нет! — отвечал Субрий Флавий таким тоном, что смех собеседников как-то сразу прекратился; затем, подняв кубок, он прибавил: — Пью за смерть комедианта.
Веселье разом исчезло. Гости, поглядывали на трибуна и друг на друга с удивлением и страхом. Фений Руф приподнялся на своем ложе; тревога и замешательство ясно выражались на его лице.
Глаза офицеров переходили с трибуна на Руфа. Он был начальник; его долг требовал арестовать мятежного трибуна, и все присутствующие молча ожидали его решения. Вино было крепко; Руф по натуре был тщеславен, сознание своей власти бросилось ему в голову. Он кинул надменный взгляд на собеседников, брови его нахмурились, глаза сверкнули, он выпрямился и воскликнул: