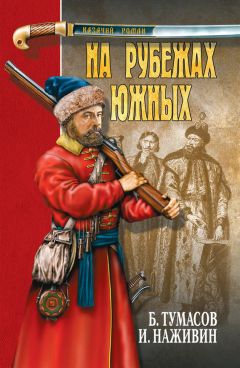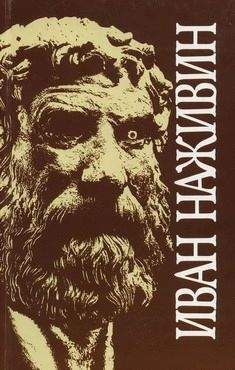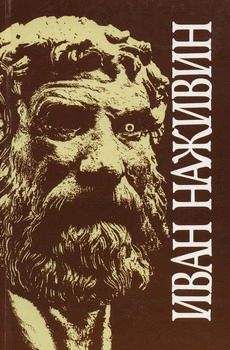Иван Наживин - Степан Разин. Казаки
– Ага, так... Ладно... – сказал Степан и вдруг раскатился он своим голосом к голытьбе: – Собирай и вы свой круг, отдельно!..
Возбуждённо галдя, зачернел и круг голоты.
– Зови сюда московского посла!.. – распорядился Степан.
Тотчас же казаки привели на круг Евдокимова. Он был по-прежнему румян, чист и сиял своей пушистой бородой.
– Говори правду: от великого государя ты приехал сюда или от бояр? – пренебрегая всякими приветствиями, грозно спросил Степан.
– Я приехал от великого государя с государевой милостивой грамотой... – своим приятным, чистым голосом отвечал Евдокимов.
– Врёшь, сукин сын!.. – рявкнул Степан. – Ты лазутчик!.. Ты присматривать за мной прислан... От бояр...
И, размахнувшись, Степан изо всей силы ударил в румяное, теперь испуганное, лицо посла.
– Бей его, казаки!.. – крикнул он.
Евдокимов валялся уже в чёрной растоптанной грязи, и казаки, тесно толпясь вокруг него, били его чем попало.
– Ребята, негоже... – говорил взволнованный Корнило. – Смотрите, быть вам в ответе перед великим государем... Брось, ребята!.. Оставь...
– Ты владей своим войском, а я буду владеть своим!.. – бешено крикнул ему Степан. – В воду москвитянина, ребята!..
– В воду его!.. В воду!..
И избитого до потери сознания Евдокимова казаки бросили в мутные, ледяные волны разгулявшегося Дона, а всех спутников его голытьба взяла под стражу. Корнило оказался атаманом только по имени: Степан верховодил всем. Теперь он уже открыто говорил, что время выступать против лиходеев-бояр, взявших в плен царя. Против самого царя он говорить остерегался: легенда царя была очень ещё крепка даже в отпетых душах. Его речи встречали всегда шумный успех, и всё резче, всё ярче становились его наскоки на привычный уклад жизни. Незадолго перед этим в Черкасске сгорела единственная церковь. Зная щедрость Степана, казаки попросили его помочь на построение храма.
– Да на что он вам? – усмехнулся Степан. – Разве нельзя жить без попов? Венчаться, что ли? Так станьте в паре против вербы да пропляшите хорошенько, вот и повенчались... Или забыли, как в старинной песне поется: тут они и обручались, вкруг ракитова куста венчались...
– А небось сам-то ты со своей Матвеевной венчался! – возражали недоверчивые.
– Мало ли что человек по глупости делает!.. – сказал Степан. – А прошло время, поразобрался в делах, ну, и херь всё лишнее, чтобы не мешало.
Буйные духом от таких слов пьянели еще больше, и жизнь становилась для них похожа на эти беспредельные степи, где нет над человеком никого и ничего и где можно гулять по всей своей вольной волюшке, но зато робкие и нерешительные задумывались всё более и более, а некоторые даже и совсем отошли от Степана.
Весь Дон шумел, готовясь к походу в неизвестное. Все чувствовали, что на этот раз произойдёт что-то решительное, окончательное. Одни верили в какое-то торжество, им и самим неясное, а другие хмуро говорили, что на всё наплевать и хуже всё равно не будет.
Воровская столица Кагальник курился дымками вечерними. Сиреневые сумерки застилали уже и серебряный разлив Дона, в котором бултыхалась, играя, рыба, и уже прозеленевшую степь, где плясали влюбленные дрофачи, и эти утопающие в невылазной грязи землянки казаков.
– Эй, Черноярец!.. Есаул, тебя...
– Что такое? – встал грустивший о чём-то над рекой Ивашка.
– Какие-то богомолки из Ведерниковской тебя требовают...
Ивашка спустился к неуклюжему тяжёлому парому, под которым хлюпала вода, и в лёгком челночке переехал на тот берег: чужих баб в станицу никак не пускали. Навстречу ему из дымных сумерек смотрели две богомолки с котомочками и в приспущенных на глаза платках. И вдруг Ивашка так и затрясся: знакомая пьянящая родинка на подбородке!.. Он испуганно вгляделся в другую богомолку: то была старая Степанида.
– Ты в уме? – едва выговорил Ивашка. – Ну-ка, отойдём в сторону...
Они отошли по берегу несколько выше перевоза. Баушка Степанида скромно села в сторонке. Молчаливый Ерик – он возился под берегом с рыбачьей снастью – проводил парочку долгим взглядом и тяжело вздохнул.
– Ты одно только скажи: ты в уме или нет? – повторил Ивашка, глядя во все глаза на милую родинку.
И зашептала Пелагея Мироновна горячо:
– Муж в Москву упросился: боится вас... Он в возок сел на Москву ехать, а я на повозку – на Дон... Довольно помучилась я с постылым!.. Не хочешь взять меня к себе, я одна тут как-нибудь пристроюсь. А назад уж больше не вернусь. Вот тебе и весь сказ мой...
– Да как же ты жить-то будешь?
– Живут же другие... – сказала Пелагея Мироновна. – А, если я не мила больше тебе, ты скажи: я уйду...
– Что ты там еще говоришь!.. – горячо дрогнул голос Ивашки. – Я извёлся весь без тебя не знаю как... Всё думал бросить всё да к тебе скакать... Не про то говорю я, а про то, что жизнь наша трудная, опасная. И опять же такой содом тут, что и мужику-то иной раз трудно, а не то что бабе. И ежели да узнают, кто ты...
– Я тебе давно говорила: уйдём в Польшу, на Литву, куда хочешь... – повторила она. – Уйдём дальше и будем жить вольными людьми. Вы вот много про волю-то кричите, а большой воли и у вас я не вижу. Жить можно и не по-дурьи. Вот как в Москве ещё была я, ходила я в Кукуевку, в слободу Немецкую, и всё дивилась: живут же вот люди!.. А наши терема придумали, заперли бабу, как скотину какую, слова лишнего не скажи, не засмейся, глаз как грехом не подыми. И чего, чего не навыдумывали!.. Ещё как женихом моё сокровище-то был, так отец мой, по обычаю, плётку ему на меня в гостинец послал, а после венца молодая разувать своего благоверного должна, а он её за это тут же при всех плетью промеж лопаток ублаготворяет... Ну и дала ж ему я потом эту плётку!.. – с раздувающимися ноздрями весело воскликнула она. – И почему промежду хошь немцев такого измывательства нету? А живут ещё почище нашего... Нет, я сыта... Конец!..
Ивашка задумался: действительно, его уже крепко теснили казацкие порядки, и воля с милой вместе манила неодолимо, и жажда мести старая жгла. И как ещё отнесутся к его уходу казаки?... Нет, сразу не решить ничего – надо мозгами не торопясь пораскинуть. Пусть она эти дни перебудет в Ведерниковской, – он указал ей одну знакомую старуху-вдову, у которой ей будет безопасно, – а там видно будет... И было так мучительно жаль отпустить свою лебёдушку: как хороша она, как сладко было бы провести с ней эту вешнюю ночку!.. А вот нельзя: атаман строго-настрого приказал, чтобы никто не смел из городка отлучаться без его разрешения, ни под каким видом, а кому уж очень нужно было отъехать на время, так тот должен был оставлять за себя двух поручителей. Вот тебе и воля!..
– Ну и наделала ты делов... – ещё раз повторил Ивашка и, боязливо оглянувшись в сгустившемся сумраке, вдруг порывисто и горячо обнял ее.
Та вся так и затрепетала: воля, милый и совсем, совсем новая жизнь! А пуще всего ласки его горячие, от которых она вся точно умирала в блаженном огне... И проступили звезды. И у парома послышалось серебристое ржанье коня... И тихо пошли они кустами вдоль берега...
...Они подошли к перевозу...
– Ну, прощай покедова... – равнодушно сказал Ивашка.
– До увиданья... – отозвалась прозябшая баушка Степанида.
По жидкой грязи заплескали колеса, – их привёз казак из Ведерниковской, – а чёрный челн, носом против по-весеннему быстрой воды, ходко пошёл на тот берег, в Кагальник.
– Что, аль зазнобушка? – услышал Ивашка низкий голос.
Он испуганно обернулся. Ерик, попыхивая трубочкой, смотрел на него из-под густых бровей. Ивашка смутился.
– Меня, брат, не опасайся... – сказал Ерик. – Я не из тех, кто жизнь людей коверкает. Ну, а ты всё-таки остерегайся: казаки догадались... Дураков везде достаточное количество – много больше, чем нужно...
И ярко, золотым огоньком, загорелась в темноте коротенькая носогрейка...
– А ежели ты так говоришь, то зачем ты здесь? – тихо медленно проговорил Ивашка.
Долгое молчание. Хрипение люльки запорожской. Тяжёлый вздох.
– А куда денешься?... – тихо, с тоской проговорил Ерик и отошёл в сторону.
А в таборе, около костров, казаки скалили зубы над Иванком:
– Иванк, а, Иванк, а в казаки хошь?
Иванко смотрел своими круглыми пуговками на смеющиеся красные от огня лица и упорно молчал.
– Э-э, ребята, да он в казаки-то не гожается: у него языка нету!..
XX. Поход
Не успели отшуметь как следует вешние воды, не успела угомониться и сесть на гнезда дикая птица, не успела зацвести цветами лазоревыми степь неоглядная, как поднялся Кагальник на поход, а за ним и вся голытьба донская... И потянулись казачьи челны вверх по опавшему уже Дону, к Паншинскому городку, туда, где исстари переволакивались воры с Дона на Волгу... В пустынных и точно бездонных пространствах этих пьяный шум похода был слышен не больше, чем звон пляшущей над сонной болотинкой комариной стайки, но всем участникам выступления казалось, что их намерение «повидаться с боярами» весьма значительно и, обливаясь горячим потом, они усердно гребли вверх.