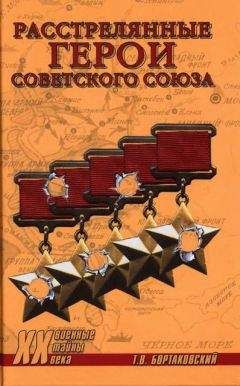Игорь Гергенрёдер - Стожок на поляне
– Если б не захотел с тобой с поезда сойти, давно б в Америке был. Сквозь вот эти стёклышки на меня, младенца, здешнее солнце светило. Воздвиженская церковь, где крещён, устояла. Святой мой - Сергий Радонежский.
Повлажнели глаза; в последний раз тихо заплакала.
– От людей ты отпал, но и Богу не служишь. Вымолю просветленье тебе... Господи, наставь.
Гроб с покойницей увезли на барке в Самару. Секлетея! В лихорадочные годы привела в заповеданное место, подарила покой среди Еричьей красы, тихости...
Что до людей? Живу как деревья, травы, рыбы.
Весной послал Конырев купить тройку лошадей. Издалека пригнал Сидор кобыл, молодых, диких, храпящих. Объезжал на выгоне, что протянулся до песчаного волжского берега. Дивились мужики отточенно-привычной, «природной» сноровке наездника:
– Как чует он лошадь-то!..
– Татарин!
– Да не татарин он!
– Всё одно - татарская манера... то-то и нюх!
– А руки-то, примечайте: вёрткие, что щучки! Всё-о-о знают!
Перед коллективизацией сгинул Конырев. Ложкарь, в одной рубахе, в опорках на босу ногу, по глубокому снегу прошёл в правление.
– Моя говорит, Егор - враг большой! Искать нада! К стенке ставить нада!
Был записан в колхоз как первейший, зарытый в землю бедняк, который тянется из одичалой тьмы к сознанию момента. Приволок на верёвке всё хозяйство своё: длиннобородую козу, хрипевшую от какой-то хвори. Козу поспешили прирезать: кровь из горла не била, лишь вытекла малость.
8.
Четыре дня минуло с того утра, как не уплыл в Самару. Переправил в Зайцево заготовленное сено. Ночью изрубил выкорчеванные, в три обхвата, пни, распалил костёр - как багровело вокруг! Как снопами искры уносились! Как трескуче-яростно рвалось сердце кострища!
Сегодня было облачно, вечер прохладен. Моросит; на рябой реке - лодка. Тихон с удочками. Жигулёвские горы - за сумрачно-густеющей дымкой. Небо над горами заволокли тучи, грознеют.
Присел меж деревьев у края обрывчика; на стволе тополя - змейка тонюсенькая: муравьи спешат вниз. Стрекоза на ромашке - глаза вспыхнули, отразили зарницу.
По отмели голуби бегают; метрах в ста от реки, под рыхлым откосом, костерок чадит. Мальчишки над котелком.
– Моя-твоя шастает.
– Он овраг знает, куды лоси-то уходят сдыхать. Их жрёт.
– Дед Малайкин всё хотел выследить, да помер.
– Сколь дней бабка-то проживёт?
– А Степугановы Прошка и Колька свежатину досыту...
– Так и свежатину?
– А то! Степуган жеребёнку глаза выколил, с председателем браковку написали. С печатью! Зарезали, с ветельнаром поделили...
Застрекотала сорока: от перешейка рысил всадник. Повернул на дым костра, вздыбил лошадь на краю откоса, с мальчишками заговорил.
9.
Вернувшись в землянку, застал Рогнеду у бурлящего самовара: посуду расставляет.
– Оставь только чашки. Гость к нам. В бане закройся.
Прибавил пламени в лампе; снаружи фыркнула лошадь. Откинулась дверь. Постояв, осторожно спустился крупный человек в парусиновом плаще.
– Оперативно определил ваше лежбище, Сергей Андреич!
Сняв плащ, поискал глазами - зацепил за сучок, торчащий из доски. Фуражку положил на стол, расправил чесучовый френч. Сел на чурбан.
– Экая краля шмыгнула на зады! Зря опасаетесь, Сергей Андреич. Рыжая, а я исключительно смуглокожих уважаю! У меня молодочка, с Дона, волос - вороново крыло! Даже и по ноге эдак меленько курчавится... нехорошо чего-то глядите - не по вашу я жизнь... А это, характер ваш зная, на случай, - положил перед собой наган.
– Ковш! - взгляд на кадку.
Гость, оторопело зачерпнув, протянул. Короткий взмах - квасом плеснуло в ноздри: захлебнулся. Наган - в руке Ноговицына.
– Встать! Говорить!
Вытянулся, не смея утереться.
– Да што я, господин капи... Ну, понял - верх ихний будет. Вы-то - шасть за границу, языки знаете, обхождение. Пристроитесь. А я? Своя тропка нужна...
Вытащил Руднякова. Скрой он про меня, словечко замолви - если б не в ЧК на службу, то младшим красным командиром я б стал на первый раз. А он, как вышли к ним, на меня: «Палач! В трибунал!»
К палатке трое ведут. Один - сопля. Я - споткнись, он меня невзначай штыком в локоть. Я в стон. Оборачиваюсь: «Чего калечить-то?» Бац - винтовку! Одного - пулей. Соплю и другого - штыком. И скитался же я...
Держа наган в правой руке, Ноговицын левой налил полчашки чаю, отхлебнул.
– Присесть-то можно, Сергей Андреич?
– Продолжать.
– А в двадцать седьмом я самолично Руднякова нашёл. Не верите? В газетах прочитал: намекали на его причастность к троцкистско-зиновьевскому блоку. Значит, арест грозил. Тут всяко лыко в строку. Я сказал ему: «Пускай меня кончат. Но сперва на вас докажу: вы екатеринбургское подполье выдали! А про трибунал нарочно кричали, сами ж мне и бежать помогли!»
– Дальше.
– Пристроил поваром. Потом обвинение с него вроде сняли. Подфартило. Помните Мещеряка? Рудняков его обвинил в правом уклоне. И Альтенштейна.
А Коростелёва, что Нотариусом проходил, обвинил как главаря контрреволюционной крестьянской партии... И в верхи взлетел!
– Всех этих людей, благодаря тебе, он спас тогда, в девятнадцатом.
– Ну, тогда-то!.. А теперь, при его делах, я ему - нужнейший человек! Я теперь - Фрол Иванович Гуторов, уполномоченный Самарского исполкома по сплошной коллективизации. А Борис Минеевич - ответственный аж за всё Среднее Поволжье, включая Оренбургскую область. Это ж восемь миллионов душ! Сколько деревень - к ногтю! Овцы друг на дружке шерсть гложут. Скоро краснопузые мужички своих мертвяков, детёнышей жрать будут!
Выбил из барабана патроны, метнул горсть через всю землянку - прямо в ушат. Швырнул наган гостю - одной рукой словил, спрятал.
Властно-давяще зазвучал голос Ноговицына:
– Мой отец, тайный советник, под началом блаженной памяти Петра Аркадьевича Столыпина служил. За престол и свою, и мою с братьями жизнь отдал бы. Человек же, на престоле сидевший, не снизошёл навестить умирающего Столыпина, «спасибо» ему сказать за его деяния... Измерзил престол дерьмом Гришки Распутина. Толкнул страну - ей век жить, нападенья не знать - в побоище, от какого и пошло падение...
Мне, по растленности моей, поздно это открылось, а как открылось - думал, один исход от мыслей: смерть. Однако сподобился: и умер, и живу. И когда зажил - умершим-то, - ушёл из меня жар. А из тебя, Витун, вижу, не уходит?
– Так и стоять мне?
Ноговицын чуть наклонил голову: гость сел, промокнул толстое лицо подкладкой фуражки.
– А мой папаша скотом промышлял. Прасол потомственный. Овец своих, чистопородных, одна к одной, до полтыщи бывало! Барана с выставки - и на стол! Не жалко. Деньгами ссужал, кожевенный завод присматривал... Сладка им наша баранинка...
Положим, я сейчас ем даже слаще, чем могло бы быть, не порушься жизнь. И права над человеком у меня такие - отцу с перепоя никогда б не приснилось... - Витун вздохнул продолжительно. - Но я не живу с лёгкой душой. А имей я мою полтыщу овец - я бы жил с лёгкой душой! Мне бы, почитай, день за днём было удовольствие, что через моё уменье, через ловкую работу достояние у меня растёт.
– А теперь, - сказал с деланно-ёрнической нотой, - у меня удовольствие от того только, что смертью мщу...
Огромные руки (в запястьях мослаки - с куриное яйцо) подрагивают мелкой частой дрожью. Пот каплет с лица, губы кривятся.
– Мщу - и, знаете, чего мне при том боле всего не хватает? Без оглядки завыть! Ох, как бы я вы-ы-ыл, как вы-ы-ыл!.. У всех, кто бы слышал, кожа б на хребтах отмёрзла. - Гость ощерился, показав крупные тесно сидящие зубы, тронутые желтизной. - Оттого у меня тяга завыть - что авось отзовётся какая ни есть своя душа... Как давеча с парохода увидел, узнал вас - так во мне и стронулось всё от пяток до темени. Выжил - и не за границей, на нашей родной земелюшке выжил: ай ли не радость?! Вот, думаю, чья душа - коли откроется - верняк покажет!
Витун ищуще прилип взглядом к лицу Ноговицына:
– Уж никак не поверю, Сергей Андреич, что нет у вас злости на тех, кто ваше дорогое, рапрекрасное отнял. А коли обманываете... про жар-то, хе-хе, - то и у вас, - он хищно хихикнул, - и у вас в душе - тяга завыть. Вот и показала душа верняк! Значит, вместе нам легче будет. С вашей-то головой мы им в сто раз больше урону нанесём!
Желаете, по финчасти приставим? Или в нарпит? А то - по заводам охвостья Промпартии выявлять. Всё в наших возможностях. У Руднякова - какие главари в друзьях! Смирнов - он в Оренбуржье, в девятнадцатом - ого! - шесть тыщ казачьих семей расстрелял. Сокольников! Осенью восемнадцатого, в Ижевске, - пустил в расход семь тыщ рабочих. Белобородов - обеспечил распыл царского семейства. А разве не поделом? Царь-то, сами сказали, и довёл до всего...
– Болтлив стал, Витун.
Привскочил, оправляя френч:
– Виноват! А я вам водочки привёз. В седельной сумке - мигом...
– Не надо.