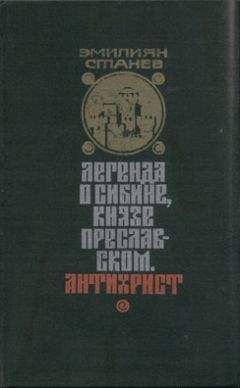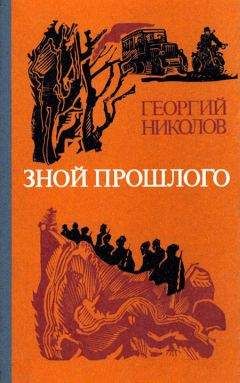Эмилиян Станев - Иван Кондарев
Утеревшись полотенцем, он поднялся по лестнице и увидел сестру.
В серой юбке, белой блузке и высоких ботинках, стягивавших крепкие икры, она показалась ему располневшей и ядреной девицей. Молочно-белая кожа огрубела, стала матовой — признак здоровья и кипучей крови девушки, близкой к поре замужества. Ее серые глаза застенчиво улыбались… Она невольно покраснела под его испытующим взглядом. Костадин улыбнулся, из-под черных усов блеснули зубы.
— Наконец-то! Добро пожаловать! Откуда и как приехала?
— Из Тырнова.
— Из Тырнова? Значит, через верхний перевал? А я тебя ждал в Минде и зря проторчал на постоялом дворе. И что ты делала в Тырнове, чего тебе там не хватало?
— Ездила купить кое-что. Пальто…
— Одна?
— Ас кем же? — улыбнулась она.
Манол сидел, освещенный лампой, на миндере,[6] застланном красным ковриком, и читал газету «Мир»,[7] держа за платьице свою двухлетнюю дочку. Старший брат уступал сложением младшему. Черные, коротко подстриженные волосы клинышком спускались на лоб, на котором обручем отпечатался след от кепки.
Братья поздоровались.
— Поторапливайся. А то есть хочется, — сказал Манол.
— Ты почему не в лавке?
— Убрался подальше от шума. Дружбаши совсем взбесились с этой встречей. Слышишь музыку? — Манол посадил ребенка к подушке и оправил пиджак.
На верхнем краю города играл духовой оркестр. Костадин вспомнил о встреченной пролетке с делегатами и только теперь догадался, почему они так спешили.
Цонка принесла стопку громыхающих в руках тарелок. Внизу, в кухне, шипело растопленное сало; мать бранила за что-то служанку. На заднем дворе Янаки покрикивал на лошадь.
«Сейчас поговорить с ней или отложить до завтра? — размышлял Костадин. — Так или иначе, дело надо решать». Он был уверен, что Райне известны отношения Христины с Кондаревым. «Если скажет, что они зашли далеко, не буду распространяться, а просто скажу, что встретился с Христиной на мостике, и больше ничего…»
Цонка расставляла тарелки; Манол мрачно следил за ее неторопливыми движениями.
— Долго еще будете возиться?! — буркнул он, усаживаясь за стол.
На лестнице, словно выплыв из глубины, показалась старая Джупунка — тощая и долговязая, с крохотным пучком волос на голове, густо утыканным шпильками.
Следом за ней шла служанка, терпеливо выслушивая брюзжание хозяйки.
— Добрый вечер, матушка, — произнес Костадин.
— Приехал? Что ни вечер, никак вас не соберешь. Раина, ты куда делась? О боже, одним моим умом долго не проживете! Молоко убежит, беги скорей, чего ждешь? — закричала она на служанку, ставившую кастрюлю на проволочную подставку на полу.
Старуха села по другую сторону стола. Справа от нее расселась семья Манола, а напротив — Костадин и Райна.
— Разливай! — Джупунка следила за каждым движением невестки и заглядывала в каждую тарелку. — Что на винограднике, успели опрыскать? Абрикосы зреют? И об этом приходится думать. Сторожку пора побелить, а некому.
— Завтра закончим опрыскивание. Все хорошо, нет ни ржавчины, ни порчи. Абрикосов в этом году будет много, — сказал Костадин и подмигнул сестре.
— Сколько раз вам говорила, запрягите пролетку. Лошадей жалеете меня свозить. А мне опротивело ездить на почтовых, слушать ругань Мартина. Как созреют абрикосы, отвезете меня. Соберу косточки, пока их не перещелкали батраки.
— В этом году абрикосы уродились без косточек, — заметила Райна.
Старуха кольнула ее взглядом и сердито поджала тонкие бескровные губы.
Манол, выжидая, пока всем разольют по тарелкам, хмурился, теряя терпение.
— Оставь ребенка! Сто раз говорил вам не сажать его за стол. Креститесь! — сказал он и тотчас принялся за еду.
5Глядя на склонившегося над едой брата, всегда глухого к разговору за столом, на бугрящиеся возле его маленьких ушей желваки, Костадин испытывал чувство неприязни. Он никогда не любил брата, а порой и ненавидел его за холодность, надменность и коварную рассудительность. С малых лет Манол помогал отцу в лавке и корчме и после смерти старика стал хозяином в доме. В свое время старый Джупун забрал Манола из гимназии, чтобы помогать по хозяйству и собирать долги с деревенских бакалейщиков. Пока Костадин учился в коммерческом училище, брат прибрал к рукам все хозяйство. Во время каникул Костадин наравне с батраками трудился на поле; это ему было больше по душе, чем сидеть в лавке или корчме. Манол, заметив его склонность к полевым работам, возложил на него заботу о земле и обход должников. Отец умер в девятьсот пятнадцатом, и К оста дину не удалось закончить училище. Надо было помогать Манолу, да и карьера чиновника отнюдь не соблазняла Костадина. После смерти отца оба взялись за торговлю, и дела пошли ничуть не хуже, чем раньше.
Костадин не понимал брата и не доверял ему. Недоверие возникло после войны, от которой оба легко отделались. Манолу удалось пристроиться в штаб полка, а Костадина мобилизовали на службу в Добрудже, далеко от передовой. Оставшись в одиночестве, Джупунка не растерялась и припрятала огромные количества соли, керосина и сахара, связки башмаков, пряжу и зерно, а в пору голода — в девятьсот восемнадцатом году — продавала все это втридорога и дороже. Вырученные деньги они немедленно вкладывали в недвижимую собственность, ибо все дорожало не по дням, а по часам. Избежав ответственности по статье четвертой закона[8] и никем не тронутые, Джупуны остались глухи и враждебны к идеям, завладевшим умами многих вскоре после войны. Смиренные прежде мещане, мелкие чиновники, завсегдатаи корчмы ныне вовсю ругали Радославова, Фердинанда и прочих правителей, иногда с пьяным ревом затевали драки, и тогда старая Джупунка, взяв с собою дочь, уходила ночевать в самую дальнюю комнату, чтобы не слышать их криков. Костадин с Манолом проворно прибирали никелевые гроши, серебряные полулевы, засаленные зеленые ассигнации, быстро и беспощадно усмиряли буянов и за полночь приходили домой, пропахшие вином, табачным дымом и солеными огурцами.
Манол быстро врастал в послевоенный быт, Костадину же все более претила торговля, особенно в корчме. Манол издалека чуял наживу и, чем больше они богатели, тем самоувереннее и нахальнее вел себя. В последнее время он стал увлекаться бакалейными товарами и назло крупнейшему торговцу в городе Николе Хаджидраганову открыл торговлю скобяными изделиями.
Однажды в лавке появился несгораемый шкаф, который поглотил всю отчетность и ценные бумаги. Ключи Манол носил на цепочке, и Костадин уже не мог следить за делами. Только раз в год, когда подводили баланс, Костадин мог приблизительно судить о барышах и убытках. Он даже не знал, каким капиталом они располагают.
Старая Джупунка, отстаивая заведенный мужем порядок, с ворчанием встречала все нововведения, но в конце концов смирялась, и тогда Костадин оказывался один против двоих.
По сохранившемуся еще от отца обычаю за столом не говорили о делах. Лишь в конце ужина, когда подавали кофе, Костадину полагалось рассказать, что он сделал на винограднике, как распорядился с долгами деревенских лавочников, и тогда уже можно было завести разговор о мельнице.
Он рассеянно слушал рассказ сестры о ее жизни в деревне, размышляя о том, как бы взять верх над Манолом в предстоящем споре. Будоражила не столько неизбежность спора, сколько навязчивая мысль: что скажут мать и особенно Манол, когда он заявит им, что хочет жениться на Христине. И хотя самого сильного сопротивления следовало ждать от матери, которая не примет невестку из бедной семьи, все будет зависеть опять-таки от Манол а. А Манол непременно воспротивится. Сам он женился по расчету. Цонка принесла ему свыше трехсот тысяч левов приданого в деньгах и недвижимости, связку монист из австрийских гульденов, спальню грубой работы с тяжелым, крытым желтым лаком гардеробом и две повозки всякого добра. Сразу же после свадьбы зять с тестем переругались из-за какого-то луга, обещанного сверх приданого. Тесть, зажиточный крестьянин из Джулюницы, наотрез отказался переписать луг, хотя Цонка оросила слезами не одно письмо, продиктованное Манолом.
Костадин опасался, что в случае раздела брат непременно обделит его. Вот почему он сейчас избегал его взгляда и, склонясь над тарелкой, прятал мрачные огоньки в глазах.
Вокруг лампы кружились мотыльки, с тихим звоном ударялись о фарфоровый пузырь и падали на белую скатерть. Маленький Дачо болтал босыми ногами под столом. Девочка, сидя на полу подле матери, играла ложкой. Старая Джупунка по привычке клала после каждого куска вилку на стол и с придирчивостью скряги следила за исчезающей едой. За открытыми окнами сияло лунное небо, тихо шептались темные ветви яблонь; глухо звякали приборы. Иногда в окна врывались взрывы смеха из казино при читалшце. На стене висел портрет старого Джупуна, увеличенный местным фотографом. Отогнутые уголки высокого воротничка обнажали короткую морщинистую шею. Из-за пушистых бровей горца устало глядели недоверчивые глаза, будто не решаясь высказать какую-то наболевшую тайну.