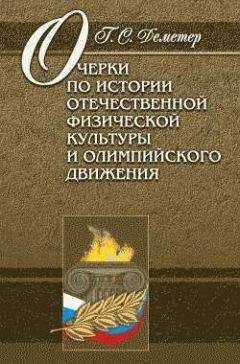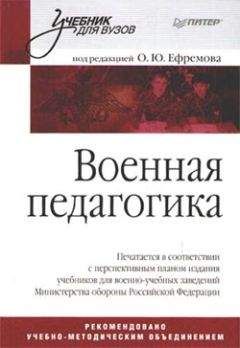Георгий Ишевский - Честь
Руководящими органами скульпторов были: воспитательский совет, собирающийся каждые два месяца под председательством директора корпуса, и педагогический под председательством инспектора. Первый касался только изучения детских натур и их морально-нравственного воспитания, второй ведал только образованием юношества и поднятием общего уровня их знаний. Истинными скульпторами, создававшими статуи, были лица духовного звания, вкладывающие в мятущиеся души детей начала христианства, религиозности и веры и конечно воспитатели. Получив на руки 50–60 детских душ, воспитатель в течении семи долгих лет ежедневно изучал сначала детские потом юношеские натуры, по разному воспринимавшие, по разному реагирующие на его работу. Он изучал малейшие изгибы, извилины души каждого, а их было так много, и все они были разные, как дни недели не похожие друг на друга.
Он инстинктом находил в этих душах пробуждение хороших начал и всячески старался укрепить их корни, тем же инстинктом он чувствовал в этих мятущихся душах уклоны к порокам и беспощадно боролся с ними. Как пахарь бросает семена на вспаханные пашни, он бросал семена правды на молодые нивы детских душ и радовался, когда они зацветали прекрасными цветами, рождавшими мужество сказать правду, какая бы горькая она ни была. Это было не легким делом, ибо на пути правды всегда стояло противодействующее начало развитого до предела чувства товарищества, всегда готового принять на себя, целым классом и даже ротой понести суровое наказание за поступок одного из товарищей. Но это чувство товарищества в конечном результате и рождало у виновного мужество сказать правду, сознаться в своем поступке. Скульптор давно уже знал виновного. Он узнал его по виновато бегающим глазам, по мятущейся между правдой и ложью душе, но он шагу не сделал, чтобы понудить виновного к сознанию. Виновный сам сознавался, а скульптор резцом правды и прощения смело резал в душе раскаявшегося черты личной порядочности. Через семь лет тяжелой творческой работы, охваченный грустью скульптор расставался с созданными им статуями. Они разлетались по всей России, и их смелый полет в жизнь дышал духовной чистотой и безгранно развитым чувством долга перед Родиной. Скоро они сами становились скульпторами, скульпторами русского солдата, вдыхая в их честные крестьянские души начала воинской доблести и чести.
Когда для Родины наступали тяжкие дни испытаний, войны, разрухи, они, оставляя семьи, первыми вставали на защиту родных рубежей, национальной чести и гордости России. Подвигами личной храбрости они вплетали новые, свежие цветы чести в венец русской армии и флота. Убеленные сединами, постаревшие, скульпторы с радостью говорили: — «Это мой кадет… моего выпуска»…
Так говорили про первого георгиевского кавалера из Симбирских кадет, Мудара Кайсимовича Анзорова, корнета Северского Драгунского полка, дерзкой атакой своего эскадрона опрокинувшего и обратившего в бегство стойкую японскую пехоту.
Так говорили про легендарного поручика Владимира Ленивцева, с мужеством и непревзойденным спокойствием отбившего огнем своей батареи последовательные атаки японской пехоты и выигравшего время для подхода наших резервов.
Так говорили про маленького, невзрачного, лысого Сашу Кулрюхина, поручика 248-го Осташеского батальона, с группой охотников гулявшего в тылу у австрийцев, как у себя дома, и вошедшего в военную литературу, как образец разумного, дельного и храбрейшего офицера дивизии.
. . . . . . . . . . . .
— Роман Густавович! Роман Густавович! Идите сюда… скорее… читайте…
— Что такое?
— Читайте… Ягубов… Саша Ягубов… Георгиевский кавалер… Ну кто мог подумать… Скромница, тихоня, красная девица… воды не замутит и вдруг Георгиевский кавалер…
— Война рождает героев, дорогой Митрофан Васильевич… А может быть это какой нибудь другой Ягубов?.. Не вашего выпуска?
— Как не моего… Читайте… Александр Георгиевич Ягубов… конечно он… Выпуска 1901-го года… Вот тебе и скромница…
— Личная скромность, дорогой Митрофан Васильевич, залог подвига, — спокойно ответил Роман Густавович, откладывая в сторону Русский Инвалид.
— Нет, что вы ни говорите, но в подвиге личной храбрости есть что то непостижимое для человеческого разума. Вот вы только что сказали, что скромность Ягубова явилась залогом его подвига… Да?.. А ваш генерал-лейтенант Репьев? В его чине, в его возрасте, когда человек уже тяжелеет, когда уже нет безшабашного дерзания молодости и вдруг подвиг личной храбрости… понимаете… личной…
— О… Михаил Иванович Репьев это моя гордость… Вот как помню его еще кадетом, весь сказался в своем подвиге… Смышленный, решительный, храбрый, дерзкий…
— А Сережа Богаевский, Татарского уланского полка? Вы помните его?
— Ну как не помнить… Первый шалун… Намучился с ним полковник Руссэт… С грехом пополам вышел в Артиллерийское училище… Там поставил какой то номер… Перевели в Тверское Кавалерийское… а финал Георгиевский крест… Не понимаю…
— Личная храбрость, дорогой Митрофан Васильевич… личная храбрость.
— А Леонид Байцуров 81-го Апшеронсхого Императрицы Екатерины Великой полка? Я до сих пор не могу себе простить, что как то с горяча, не разобрав дела, посадил его в карцер… Потом Прибылович сознался… Кого посадил?.. Кого? Будущего орденского кавалера…
— Я часто думаю, Роман Густавович, а сколько не дошло до подвига и умерло смертью храбрых… И все наши Симбирцы… наши дети, которых мы воспитали, наша честь…
Так говорили два старых скульптора, стоявших на грани ухода в отставку, и гордым счастьем лучились их старческие глаза. Они знали, что с их уходом какие то новые скульпторы будут лепить новые статуи чести, но они не предполагали, что судьба сделает их свидетелем величайших подвигов самих кадет…
Грянул час ужасной русской смуты, и яркими огнями алмазов засверкали подвиги детей-кадет…
Никто не прочтет в Русском Инвалиде имен пяти кадет, расстрелянных в лесу Поливны, расстрелянных только за то, что они кадеты, за то, что не отдали этой бессмысленной смуте своей чести…
Никто не узнает про подвиг Володи и Сережи, с риском для жизни спасших знамя корпуса и где то нашедших себе скромную могилу — «неизвестного кадета».
Только Родина знает, где эта могила… Только солнце Родины пригревает ее, трава Родины украшает ее зеленью…
Перед ней не склоняются головы коронованных особ, полководцев, мировых политиканов… На ней не теплится огонь неугасимой лампады. Никто не возлагает на нее венков… Они не нужны… Могила всегда цветет вечными, прекрасными цветами кадетской памяти, и «Жизнь бесконечная» никогда не умрет на этой честной могиле.
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первые дни в корпусе тянулись медленно, скучно и однообразно, несмотря на новизну обстановки. В один момент куда-то ушла ласка мамы, забота тети Лели, бабушки, куда то испарилась маленькая церковь на Московской улице, в которую каждое утро Жоржик ходил молиться за папу, потому что он на войне, испарился татарин деньщик Султан, сопровождавший его в церковь, ушла, как будто умерла, рябенькая курочка «Кука», часами просиживающая на его плече, целуя его шею, глаза, волосы, куда то убежал рыжий сеттэр «Фебка», постоянный участник детских игр. Маленькому, впечатлительному Жоржику временами казалось, что он одинокий, всеми забытый ребенок, отчего казенная обстановка корпуса, уложенная в рамки часов и даже минут, была для него тягостным испытанием. Временами новизна этой обстановки несколько отвлекала его. В свободное время он ходил по ротному залу, рассматривая незнакомые портреты и картины из военной жизни, повешенные в простенках окон и дверей. Он осторожно присматривался к одноклассникам, словно выбирал будущих друзей жизни. Сентиментальная натура Жоржика, в своей маленькой жизни, уже давно разделила детей на живых и мертвых. Дети живые это те, которые любят правду, природу, лес, цветы, животных. Дети мертвые, которые боятся правды, не чувствуют природы. В детском понимании Жоржика были еще средние дети, их было очень много, и под тем или другим влиянием они делались или мертвыми, или живыми.
День проходил легче, но когда наступала ночь, когда в спальне умирал последний детский шум, когда сотня однообразно подстриженных голов сковывалась безмятежным сном, Жоржика охватывало чувство горького одиночества. Все впечатления дня испарялись как туман над рекой. Неудержимыми ручьями текли слезы на казенную жесткую подушку, с беспощадной ясностью воскрешая перед глазами картины далекого родного дома…
Съехались старички, кадеты пробывшие в корпусе год, а второгодники, за хорошие успехи в науках — два, и жизнь 3-й роты вступила в фазу короткого, но бешеного по темпу, периода «товарообмена», или первого знакомства с глупыми неопытными новичками. Пользуясь простодушием и доверием новичков, старички искусным обманом выменивали у них перочинные ножи, цепочки, перья, записные книжки, бабушкины пироги и сласти.
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](/uploads/posts/books/48021/48021.jpg)
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк]](/uploads/posts/books/50071/50071.jpg)