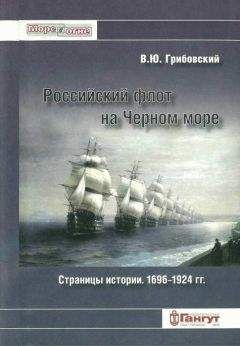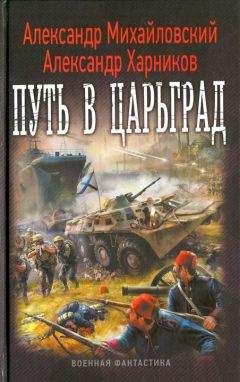Виталий Шенталинский - Статиръ
«Видишь ли, самодержавне! — писал он в челобитной царю Алексею Михайловичу. — Ты владеешь на свободе одною Русскою землею, а мне Сын Божий покорил за темничное сидение и небо, и землю!» Казнили Аввакума после одиннадцати лет сибирской ссылки и пятнадцати — заточения в срубе, засыпанном землей, с одним окошком, через которое подавались и пища и дровишки. Вместе с ним сгорели на костре инок Епифаний, священник Лазарь и дьякон Федор Иванов — все они тоже были писателями.
Еретиком считался поначалу и Симеон Полоцкий, творивший в одно время с отцом Потапом, как и он, произносивший свои «Слова» перед народом по воскресеньям и вводивший устную проповедь в Москве. Да и после, уже укрепив свое положение, сделав блестящую карьеру и даже став воспитателем государевых детей как самый высокоученый муж в Московском государстве, он считал место поэта под солнцем выше царского.
Рождалось новое мировосприятие, личность восставала в рабе, автор являл свое лицо в коллективном и безымянном. И взгляды Симеона Полоцкого, первым на Руси осознавшего себя профессиональным литератором, оказались созвучны самородной философии отца Потапа. Как мыслил пермский мудрец:
«Все сколько–нибудь видимое и невидимое, премудрым Творцом созданное, вещественное и мыслью постигаемое, тлеющее и вечное востребует к своему бытию именование. Всякая бытность от Создателя своего именем изображается и нами, людьми, познается».
Подобно тому как Бог Словом своим творит мир, так и поэт или писатель своим словом спасает мир от небытия. Мир — книга, и его можно преобразить словом.
А вот судьба ближайшего ученика Симеона Полоцкого, которому он завещал свою миссию просвещения, — поэта и историка Сильвестра Медведева — куда плачевней. Ученый монах, по мнению суда, «язык имел столь неумолчно блядущ 1, что, казалось, все его тело превратилось в язык», за что, после пыток на дыбе, бичами и огнем, и отсекли ему этот язык топором, вместе с головой, на Красной площади, казнили как чернокнижника и колдуна. Получилось совсем по его же, Сильвестра, слову: «Ныне увы! Нашему такому неразумию вся вселенная смеется: Русь глупая, ничтоже сведущая!»
Еще раньше, в первой четверти того же ХVII века, другой инакомыслящий, молодой князь, поэт и публицист Иван Хворостинин, ожег московских людей афоризмом:
Сеют землю рожью,
А живут все ложью! —
и вскоре был закован за вольнодумие в железы и брошен в темницу. Многие сочинения его казнены: изъяты при обыске и уничтожены. А ведь, как и отец Потап, хотел только «нечто понять и полезное предложить».
«Странен я был в этой стране благодушных, обречен на поношение и стыд, — горько сетовал князь. — Хлеб, как пепел, ел и питье мое слезами растворял, на ложе пребывал без сна, камнем стала постель моя… Золотая дорога была к дарованию моему». Прожил Иван Хворостинин всего тридцать пять лет, но нагляделся много «дивных видений». Был, еще юношей, на похоронах Бориса Годунова, когда все головы «от печали восклонили». А скоро тот же люд с таким же неистовством извергал тело бывшего царя из Архангельского собора за то, что «убил безвинных много». Оторопь берет, как близко это далекое прошлое «дивным видениям», шатавшим нас совсем недавно: от кровавых слез на похоронах Сталина — до его выброса из Мавзолея; правда, близко метнули — Кремлевскую стену подпирать.
Тогда же, при Иване Хворостинине, написал гневный памфлет против страха — «Слово о расслабленном, и немужественном, и изумленном страховании» — подъячий Антоний Подольский. «От безмолвия бывает страх», — определил он причину болезни. Стихи и проза его — голос народной правды — ходили в списках, в тогдашнем самиздате, автора же отправили в цепях на Север, в места не столь отдаленные.
Таков был век отца Потапа по части свободы мысли и слова. А что же столетием раньше, когда, собственно, и возникло в России книгопечатание? Да, это был век первой печатной русской книги, но и век Ивана Грозного, развязавшего такой террор против своего народа, что его превзойдет разве что только Иосиф Сталин через четыреста лет! Это был век знаменитого опричника, карателя и пытателя Малюты Скуратова, чье имя станет нарицательным в русской истории и с которого пойдет череда кровавых карликов — палачей при власти, как на подбор, маленького роста — через Степана Шешковского, главу Тайной канцелярии при Екатерине II, до наркома Николая Ежова.
«Откуда такая тщета нам? — вопрошал блестящий публицист, князь Андрей Курбский, первый русский западник, бежавший от царского гнева в Литву как раз в незабвенном 1564 году, когда появилась в Москве первая типографская книга. — Мы неискусны и учиться ленивы, и вопрошати о неведомых горды и презрительны. Но простерты лежим, в леность и гнусность погружены». С ним перекликнется через два с половиной века Пушкин: «Мы ленивы и нелюбопытны».
В центре Москвы, рядом с Лубянкой, красуется памятник первопечатнику Ивану Федорову, и мало кто знает, как отблагодарили наши соотечественники этого человека за его духовный подвиг. Дивному мастеру Ивану Федорову и его товарищу Петру Мстиславцу удалось выпустить в Москве лишь две книги, после чего зависть и ненависть многих начальников, светских и церковных, их из родимого отечества изгнали. Пришлось бежать в эмиграцию нашей гордости, обвиненной в «грамматической хитрости», и там закончить свои труды и дни в бедности. А первый печатный двор близ Кремля ненавистники спалили дотла, чтобы через несколько лет другие мастера, на свой страх и риск, начали все сначала, возобновили книгопечатание. Факт, что первая русская грамматика и первый русский букварь, к нашему историческому стыду, появились не в первопрестольной, а в Литве, хоть и указал неистребимый патриот Иван Федоров, что напечатал он их «для пользы русского народа».
Наш Гутенберг все же, слава Богу, не забыт, вошел в историю, но вот кто, кроме специалистов по древней литературе, знает про монаха Артемия Троицкого, тоже жившего при Иване Грозном? «В мире скорби будете, — предупреждал Артемий своих учеников. — Ибо обычай есть живущих временными интересами ненавидеть Христовых учеников. Потому что премудрость Божия супротивна мудрости мира сего. Ее никто из князей века сего не разумел!» И перед самим Иваном Грозным не дрогнул Артемий. Бросил в послании ему: «Учить следует, а не мучить!» Простенькая формула, а достойна быть классикой, учебным пособием для русской власти на много веков вперед.
Ну и, конечно, схватили монаха и, заковав в кандалы, заточили поукромнее — аж на Соловки. Балакай там с чайками поморскими, учи их уму–разуму!
Так ведь и оттуда он исхитрился утечь — все в ту же Литву, ближнюю заграницу. И там не опустил пера, продолжал строчить послания на родину, братьям по духу: «Душевный человек не приемлет духовного, но считает за сумасшедшего. Поэтому пророки, прежде возглашавшие Слово Божие, какие гонения от соплеменников приняли! Многие из них и уморены были различно, потомки же их соплеменников переполнили меру отцов. И после них бесчисленно оказалось мучеников за правду и за веру. Этого ли не довольно нам в утешение?.. Бог хранит все. Если даже все осудят нас, как злодеев, — это не беда для нас, за слова Бога страдающих. Не усомнимся в истине!»
Каково бесстрашие и готовность пострадать за Слово Божие, если в утешение судьба древних мучеников, а не в страх!
Уже точно не мог читать это послание автор «Статира», но ведь сам думал и говорил сродно, будто перекликаясь с Артемием, зажигая свою свечу от его свечи.
Будучи до опалы и суда игуменом Троице — Сергиевой лавры, Артемий заступился перед царем за другого подвижника и просветителя — Михаила Триволиса (Максима Грека), что позволило тому хотя бы умереть на воле и в покое. Тридцать лет провел в жестоком монастырском заточении этот самый образованный тогда человек на Руси!
Он был приглашен с Афона в 1518 году великим князем Василием III как гость для переводов и исправления книг. Успевший пожить в юности в Греции и Италии, подружиться с виднейшими европейскими гуманистами, Максим Грек рассказал москвичам об очагах земной цивилизации — Венеции, Флоренции, Парижском университете, первым открыл им Америку, то есть сообщил о существовании этой части света, подал идею книгопечатания. Очень скоро он понял, куда попал, и запросился обратно, в Европу. Но было уже поздно — ловушка захлопнулась. Мотивировка отказа в отъезде очень похожа на советскую:
— Человек он разумный, увидал наше доброе и лихое и, когда пойдет из Руси, все расскажет…
Максима Грека судили дважды. Обвинений было много: и что, мол, не так и не то переводит, и что старые книги неправильно исправляет (а он возвращал их к первоисточнику, снимал искажения), и что речи недозволенные ведет, и что в непримиримой борьбе в Церкви между «стяжателями» и «нестяжателями» встал на сторону «нестяжателей», естественно, теснимых и гонимых. Его слова — «ведаю все везде, что деется» — были поставлены в вину как «волхование еллинское и еретическое». И вот что еще донесли на него окружающие его монахи: колдует, пишет водкой на дланях тайные знаки и, когда великий князь на него гневается, выставляет эти длани навстречу, и князь тут же гнев свой смиряет и начинает смеяться.