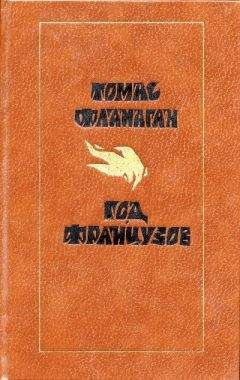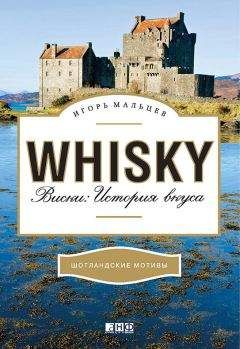Александр Круглов - Сосунок
Ваня сорвался с места, не чуя ног под собой, о страхе, об опасности, обо всем на свете позабыв. Во все лопатки пустился бежать.
По следу колес — орудийных резиновых и тележных кованых передка и конских копыт, едва различимых в тусклом свете размытых ночным сырым воздухом звезд и ущербной луны (к тому же угасавших к утру), Ваня запаленно, весь трепеща от первой встречи с войной, с перекошенным от нервного тика лицом, нашел-таки дорогу, добежал до обоза — рядом со вторым эшелоном, считай что, в тылу. Ринулся сразу к коням, к передку.
И тут отдаленно и глухо что-то застрочило, застукало. Обернулся невольно назад, откуда бежал. Там, сзади, в долине, в направлении Моздока еще черное, чуть-чуть лишь серевшее небо прочеркивалось множеством светящихся звезд. Отрываясь стремительно от земли. А кверху все заметнее замедляясь, при этом колышась и извиваясь как змеи, сливаясь почти в сплошные стрелы огня, они летели метеоритами, потоками небесных удивительных тел. Но не вниз, не к земле, а напротив, в небо, в зенит, и сгорали там, теряясь в сонмище гаснувших звезд и одинокой луны. И сразу же, тут же opnonpnkn, прожгло черное небо — одна за другой — и множество ярких, как далекие молнии, удивительных вспышек, и потом покатилась оттуда окрест, на весь ночной предутренний мир россыпь далеких коротких громов.
Такого Ваня не видел, не слышал еще никогда. Чуть испугался. На минуту забыл обо всем. Потрясенно стал наблюдать — такое, казалось, все не военное вовсе, не фронтовое, а скорее торжественное, красочно-праздничное или даже как будто из сказки.
Немцы стреляли, наверное, чтобы показать, что не спят, что в любую минуту готовы к отпору, а может быть, просто в черном небе им что-то почудилось — самолет, может, наш, скорее всего "кукурузник". Вот и ударили по нему из зенитных орудий и пулеметов.
До этого Ваня о трассирующих снарядах и пулях только слыхал и о том, что есть у немцев и бронебойные пули, и разрывные — "дум-дум", и всякие прочие. А тут увидал.
Далеко стреляли, внизу, в долине, возле Моздока. Да и вверх, в пустоту, в бесконечное черное в звездах бездонье. Для него, для Вани, безобидно, не опасно вовсе. А зрелище — чудо как изумительно. Ну просто фантастика! Вполне за одно из таинственных явлений природы можно принять: как кометы, сияния, грозы. Вот и смотрел… Смотрел все и смотрел. Никак нельзя было глаз оторвать.
Но рядом у ног вдруг кто-то сапнул, всхлипнул со стоном спросонья. Ваня вздрогнул. Очнулся. Пригнулся, тараща глаза.
Оказалось, ездовой — Савелий Саввович Лосев, бывший рыбак, бросив под передком на землю шинель, тревожно спал между колес. Распряженные кони, должно быть коротко, туго стреноженные (видно плохо было еще, только слыхать), лениво перетирали гнилыми зубами тощую сухую траву и, отгоняя слепней, били хвостами себя по бокам. Кто-то похрапывал со свистом и рядом, в кустах. А дальше столбом вздымались вверх искры и дым. То вовсю старалась походная солдатская кухня. И доносились оттуда приглушенные озабоченные голоса. И никому, казалось, не было дела до Вани, да и вообще до кого бы то ни было, кто ни появись сейчас здесь. Похоже, забреди и немец сюда — дали бы шарить по обозным тылам и ему.
"А вдруг, — ударило неожиданно Ваню, когда он схватился руками за передок, — и здесь нет прицела, вдруг на последнем привале забыл". В ужасе ботинком встал на оглоблю, пружиной взметнулся на облучок. Вскинул дощатую крышку сиденья. Так и шибануло кислятиной в нос. Морщась, отдуваясь, сунул руку туда, в "коробок". Зашарил, зашарил взволнованно в нем. Нет. И тут нет прицела. Так и упало все у Вани внутри. Нет, этого ему не простят. Здесь, на фронте, оплошность, неумение, растерянность — те же трусость, предательство, потачка, подарок врагу. Рука, холодея, потянулась назад. И вдруг… Вот он, тут! Слава богу! В самом углу, под ворохом старой прелой сбруи лежит. На месте! Нашел! Жадно ухватился за ручку чехла, в котором находился прицел, рванул на себя. С облегчением, с восторгом прижал находку к груди. Грудь, плечи, спина — в испарине, липкие — так и ходили, так и вздымались: от долгого быстрого бега, от командирских угроз, матюков, от ощущения никчемности и унижения. А теперь уже и от счастья. Великого счастья! Так всем ртом и дышал, прямо заглатывал прохладный горный предутренний воздух, как, бывало, дома, в крымских горах, когда с отцом взбирались к вершинам.
Отдышавшись слегка, придя немного в себя, вскинул настороженно голову: прислушаться — куда уходить, чтобы не заметил никто. Вот… Между коней и кустов. Никого. Скорее, скорее… С пылкой юной надеждой опять, с верой и в жизнь, и в людей, и в себя. С прицелом. Да, да — с прицелом! Туда, где его с нетерпением ждут. Орудие ждет, расчет, отделенный. И только — прыг с облучка, с оглобли на землю, только нужное направление взял, только ногу занес — рвануться вперед… И на тебе: откуда ни возьмись — старшина.
— А ты чего здесь? — поразился, не сразу признав в предутреннем мраке наводчика, Матушкин! — Ты же должен быть там! — И взмахнул рукой на уже серевший восток.
Ваня как стоял с прицелом, словно прижавшая к сердцу младенца кормящая мать, так и застыл.
— Ну! — дожидаясь ответа, прохрипел, табачно закашлявшись, старшина. Сунул, видимо, только скрученную цигарку в рот. Стрельнул зажигалкой — не нашей, скорее немецкой, трофейной: под никелем, резная, богатая очень. Поднес к табаку огонек.
В трепетном свете шинельно-бензинового фителька Ваня увидел лицо — скуластое, под шапкой седеющих черных волос, с убегающим назад, лысеющим лбом и под ним в глубоких глазницах два влажных, блестящих, немигающих глаза.
Увидел и растерялся. Об этом бывшем охотнике-промысловике из далекого Приморья, где и Ваня родился и прожил свои первые годы, на батарее уже успела сложиться слава человека справедливого, однако и крутого и требовательного. Он и взводным-то даже комбату Лебедю не уступал, если знал, что прав, что на его стороне устав, закон, правда. А уж отделенным, солдатам… Спуску ни в чем не давал, сполна требовал, на всю, как говорится, катушку. И под его упорным изучающим взглядом, освещенный слабым пляшущим огоньком зажигалки, Ваня что-то невнятно, растерянно залепетал, затоптался на месте обмякшими сразу ногами — в истоптанных огромных ботинках с обмотками и в таких же просторных, не по размеру, затасканных солдатских штанах. Поверх них, столь же объемная, облинявшая вся, свисала мешком до самых колен гимнастерка, и пялилась на стриженной догола голове огромная, как лоханка, пилотка. А за спиной, словно коромысло на жеваном лыке, болтался на брезентовом плетеном ремне карабин.
— Чего, чего? — рассматривая все это — как на корове седло, — недоуменно, с опаской переспросил старшина: не понял невнятного детского лепета.
— Прицел… Прицел я забыл, — чтобы показать, чуть отстранив его от груди, заикаясь, выдавил из себя малость повнятнее совсем зелененький безусый солдатик — даже без пушка на лице, с детской прозрачной матовой кожей и с шеей длинной и тонкой, как у утенка, исхудавший, измученный недельным полуголодным, в постоянном недосыпе и напряжении походом, в неуклюжей, с чужого плеча солдатской форме — вовсе нелепый, такой весь мамин, домашний, совсем-совсем не военный, не боевой.
— Прицел? — переспросил старшина. Солдатик торопливо, с готовностью закивал.
— Как же так? — начав было допрос подозрительно, даже малость сурово, теперь с любопытством, похоже, и с жалостью подивился старшой. "Господи, — метнулось в его тяжелой, задавленной заботами и постоянным вынужденным бдением голове, — и это — наводчик. Сосунок ведь совсем".
— Орудие отцепили, — чистосердечно бесхитростно залепетал сосунок, — а взять из передка прицел я забыл. Ездовой и увез.
— И ты это, значит, за ним? За прицелом сюда? Ваня снова молча мотнул головой.
— А нас как нашел?
— По следам.
— По следам? — не поверил сразу старшой. Всю жизнь в тайге, с ружьем и собаками, он знал, как это непросто — по следу идти, по какому бы то ни было следу, даже в ясную лунную ночь, даже днем. На заимках, по восточным притокам Амура с дедом, с отцом, да и сам, как повзрослел, а в последнее время и с сыном Николкой брали по следу и горностая, и соболя, и росомаху, и тигра полосатого, кошку, как называли они его между собой. Несколько раз, по специальным заказам, лицензиям, доводилось брать и его. И всегда это требовало долгого изнурительного труда. И теперь он вглядывался в сосунка с недоверием и чуть-чуть уже с удивлением даже. Паренек, правда, тоже приморец, земляк, но родом из Владивостока, насквозь городской, из интеллигентненьких, видать, из образованной ученой семьи. Откуда же ему по следу ходить? — Ишь ты, — почесал тяжелой ладонью заросший, давно не знавший ножниц загривок приморец. — По следу, значитца? Ну молодец, коли по следу. Недаром земляк.
А Ваня, наверное, и сам бы не смог объяснить, как ему обоз удалось отыскать. От ощущения тяжкой солдатской вины, от отчаяния, от страха, m`bepmne. Все, все чувства, должно быть, в тот поиск вложил, все свои былые детские игры — в разведчиков, в индейцев, в войну, соревнования всевозможные: и в школах, и в пионерлагерях, и на разных базах спортивных. Да и все, хотя и короткие, редкие, но все-таки преподанные отцом (возможно, и преднамеренно — и большое спасибо ему за это) уроки раннего мужества, опыт совместных с ним походов за город — с удочкой, ружьем, рюкзаком.