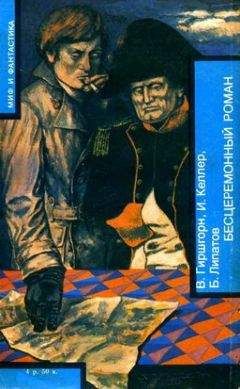Владимир Лебедев - За святую обитель
Отец Иоасаф читал ляшское послание без гнева и волнения; князь-воевода то и дело кусал губы, хмурил брови, и дрожал, как от ветра, в его руках ляшский лист.
— Ах, злодеи! Чем похваляются! — загремел он во всю широкую грудь. — Слушайте, отцы, слушай, народ православный!.. Пишут ляхи нам, воеводам, — покоритесь-де вору Тушинскому… Именуют его сыном царя Иоанна… Сулят нам: коли сдадим обитель, будем-де наместниками Троицкого града, владетелями богатых сел. А ежели супротивничать будем, падут-де наши головы…
Пуще прежнего загудела толпа; кое-кто уж к Бессону Руготину подступил.
— Стойте! — властно молвил архимандрит. — Поведаю и я, что ляхи инокам пишут… Сулят они обители великие милости от царя Димитрия и от царицы Марины! От еретички-то ляшской!..
Не выдержал степенный отец Иоасаф — и отплюнулся при этом имени, которое вся Русь проклинала. Заволновались и все иноки: иные крестное знамение творили, иные тоже с гневом отплевывались.
— Многим еще нас прельщают ляхи нечестивые… Ужели поддадимся соблазну, отцы и миряне?..
Старцы поднялись со своих мест; крики раздались у дверей:
— За обитель-матушку!
— Постоим! Живот свой положим!
— Бейте ляшского посланца! Бейте перебежчика!.. Дюжий послушник железной рукой схватил за ворот Бессона Руготина, десятки других рук потянулись к побледневшему, трепещущему боярскому сыну. Еще миг один, и конец пришел бы ему.
— Прочь! Слушайте воеводу!
Смутилась и остановилась толпа от грозного окрика князя Григория. Воевода собой заслонил Руготина.
— Не дело, братцы! Посланцев негоже убивать да калечить. К тому же он и нам пригоден будет: есть с кем ответ ляхам послать. Отходи, молодцы!
Воеводу послушались.
— Отец архимандрит, есть ли в обители инок, в письме искусный? Надо отписать ляхам.
— Отец Гурий, вспомни-ка старые года, — подозвал архимандрит высокого худого инока.
Старец Гурий молча подошел к воеводе.
— Ты, отец Гурий, про то ляхам отпиши, что попусту они нас прельщают. Да укори их побольнее да посердитее, чтобы поняли нехристи, что никто их здесь не боится.
— Отпишу как следует, воевода, — ответил инок князю Долгорукому. — Не впервой мне грамоты писать; послужил я в приказе посольском при царе Иване.
— Дело! — весело сказал князь. — А теперь, отец архимандрит, по мне вот что сделать: пойдем-ка прочтем всему народу, что нехристи пишут… Пусть знают православные все коварство прельщения ляшского… Эй, сотник, ты посланца-то вражьего побереги — как бы его не изобидели наши…
Совсем уже рассвело, когда вышли из покоев архимандрита старцы да воеводы. Еле пробирались они сквозь густую толпу богомольцев; народ знал уж, что ляхи грамоту прислали, и валом валил за властями обительскими. Отца Иоасафа со всех сторон обступили, лобызали ему руки, целовали полы его рясы. Гудела встревоженная толпа: что-де будет?..
С наступлением дня богомольцы кое-как разместились, пристроились по всем уголкам обители. Под- навесами, под лестницами, в клетушках да амбарах — везде люди гнездились. Близ церкви Троицы Живоначальной, в уголке, приютилась и старуха-богомолка из села Здвиженского с дочкой Грунюшкой. Который раз принималась старуха рассказывать православным людям, как спас ее с дочкой Господь от рук вражеских…
— Как загремели пищали, как зазвенели мечи, тут я — спаси Господи! — сомлела совсем, глаза закрыла… А взглянула потом — вижу, гонят наши стрельцы ляхов… Дай им Бог здоровья, нас взяли, не забыли…
— Матушка, — перебила ее Груня, — да оставят ли нас в обители? Ночью, слышь, говорили, что негодного народу набралось много. И то — что с нас толку?..
— Полно, девушка, не кручинься, — ласково сказал Ананий Селевин, подходя к ним. — Эй, православные, — крикнул он богомольцам, — соборные старцы так положили, что никому отказу не будет, никого из обители не прогонят. Ради святого Сергия всем приют и защита будет…
Матери с грудными детьми, старики да больные, что совсем было приуныли, ободрились при доброй весточке. Все иноков благословлять начали…
— Сохрани, Боже, обитель святую!
— Помоги, Господи, архимандриту да старцам.
Радостно улыбнулся Ананий и дальше пошел — туда, где медленно двигалась черная вереница иноков. Выше всех головою был богатырь молоковский; умиленным, благодарным взглядом проводила его Груня.
Загремел большой колокол, мощно призывал его могучий голос православный люд, сулил он надежду, сулил крепкую, нерушимую оборону. Каждая рука подымалась сотворить крестное знамение, молитва сама из сердца шла.
На паперти большого храма издалека виднелась черная мантия архимандрита Иоасафа; блестел в его высоко поднятой руке серебряный крест.
Притих народ, смолкли люди обительские, внимая пастырскому слову. Ближние передавали дальним — так расходилась речь архимандрита по всей обители.
— Слышь, Грунюшка, — ловила бегучие толки старуха. — Хотят нас ляхи нечестивой царице Маринке отдать!..
— Сгинь она совсем! — вмешался седой купец. — Бесам она свою душу продала. Колдунья она, оборотень. Когда мы на Москве самозванца казнили, в ту пору, православные, обернись Маринка совой серою — ив окно из дворца улетела!..
— Ишь ты, нечисть какая! — крестясь, буркнул посадский. — Так и не поймали?..
— Прямехонько в Тушино пустилась, злодейка. Она же и надумала самозванца-то нового…
— Гляньте-ка, гляньте! — зашумели кругом голоса. — Это никак воеводы на паперть взошли… В самую церковь идут…
— Крест пошли целовать, — отвечали ближние к паперти…
— Чтобы без измены в осаде сидеть…
— Над мощами угодника Божьего крест целуют. — А доблестен князь-воевода!
— Не впервой ему! Не выдаст обители!
За воеводами начали входить в церковь для крестного целования низшие начальники — сотники, есаулы… Потом потянулись стрельцы, дети боярские, пушкари, казаки верные — и простой народ туда же валил…
А колокола обительские гремели все звончее, все радостнее, словно ликовали: есть-де кому нашу обитель-матушку оборонять, отстаивать…
Добрались до церкви и молоковские молодцы. Ярко горели глаза у Тимофея Суеты, у Данилы, у Анания; только Оська Селевин словно бы скучен был, глядел он все в землю.
Вот пахнуло на них ладаном, засверкали пред иконами лампадки и свечи; вот и рака святителя… Взял Ананий крест из рук инока и молвил:
— Братья, товарищи, святой крест целую, нерушимую клятву даю — и за себя, и за вас! Не изменим обители!
Истово крестясь, сотворили целование и Данила, и Тимофей. После всех Осип Селевин приложился… Темновато было в храме, а то приметили бы, что побледнело в тот миг его лицо, скривились тонкие губы…
Шумела и радовалась толпа богомольцев, гудели колокола. В покое отца Иоасафа старец Гурий вручал Бессону Руготину ответную грамоту за печатью архимандрита. И в самом начале той грамоты таковая отповедь ляхам значилась: "Да весть ваше темное державство, гордии начальницы Сапега и Лисовский, и прочая ваша дружина, векую нас прельщаете, Христово стадо?.. Богоборцы, мерзость запустения, да весте, яко и десяти лет христианское отроча в Троицком Сергиевом монастыре посмеется вашему совету безумному, а о нихже есте к нам писаете, мы, сия приемше, оплевахом. Кая бо польза человеку возлюбити тьму паче света?.. Но иже всего мира не хощем богатства противу своего крестнаго целования…"
Видно, не забыл старец Гурий, как грамоты пишут: пристыдил и опозорил он ляшских начальников…
В польском стане
Разноязычный, шумный говор перекатывался по стану вражьему, что раскинулся за турами, рвами да валами земляными вокруг Троице-Сергиевской обители. Крепко оскорбились ляхи той грамотой, где иноки их пристыдили и опозорили, и с того самого дня работали, рук не покладая: землю рыли, туры готовили, валы насыпали. Так спешили, что к третьему дню октября месяца была святая обитель крепко-накрепко заперта непроходимым кольцом. Между турами чернели жерла пушек, словно ждали их медные пасти, когда им изрыгнуть с огонем и дымом каленые ядра в монастырские стены. Но польские военачальники еще хотели войску передышку дать. Пока молчали пушки и на Волкуше-горе, где стояли полки Сапеги, и на опушке рощи Терентьевской, где разбил свои таборы хищник-удалец — пан Александр Лисовский.
Был уже полдень. К стану Лисовского скакал на лихом коне черноусый воин в красном кунтуше, в красной заломленной кверху шапочке с соколиным пером. Не доезжая до ставки пана Лисовского, всадник услышал в роще, в самой чаще тенистой, веселые крики и звон кубков и чаш. Пришпорив скакуна, нарядный воин помчался туда.
Пан военачальник Александр Лисовский пировал с приятелями, расположившись на дорогих коврах вокруг бочонков с вином и наливкой.
— А! Пан ротмистр Костовский! — вскричал он, увидев вновь приехавшего. — Просим к нам… Кубок вина!