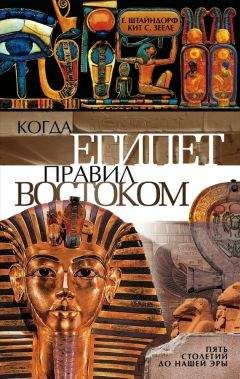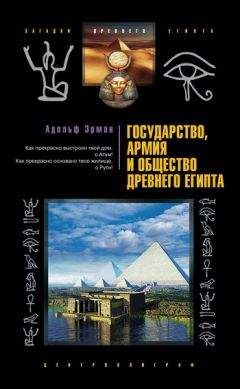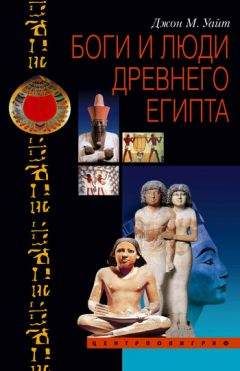Михаил Шишкин - Записки Ларионова
К отцу я и вовсе боялся подходить. Он сделался в последние годы страшным, неприятным, запирался у себя, что-то писал, потом написанное сжигал, все чаще и чаще был нетрезв. Иногда он посылал за мной, и я с внутренним отвращением входил в его кабинет, где было невозможно дышать, таким спертым был воздух и так дурно пахли его стоптанные валенки. Отец боялся сквозняков и никогда не проветривал своей комнаты. Все вещи в его кабинете были навалены кое-как, в полном беспорядке, он запрещал прибирать у себя, и всюду толстым слоем лежала пыль. Помню засыпанную пеплом несвежую смятую постель, разложенную на диване, план какой-то крепости на стене, рисунок первого парохода и копии с разных старинных картин небольшого размера, переведенные на стекло и сзади раскрашенные. Они изображали римских республиканцев, гордых и обреченных.
Отец принимался спрашивать меня какой-нибудь урок из геометрии или грамматики, а то начинал выпытывать у меня про учителей, про моих товарищей, но я или отмалчивался, или бурчал что-то невнятное, лишь бы поскорей вырваться из этой комнаты.
Матушка несколько раз вызывала к нему врачей. Отец был с ними дерзок, груб, не давал себя смотреть, а одного из них чуть не спустил с лестницы. Помню, что какой-то маленький старичок в черной перчатке, на которого матушка особенно надеялась, долго, чуть ли не с час просидел с отцом в его кабинете и, выйдя, стал успокаивать ее, что болезнь не в организме и что вообще нет ничего страшного.
– Так что же с ним? – спросила матушка в отчаянии.
Старичок пожал плечами и положил руку в черной перчатке на стол. Деревянная рука звонко стукнула.
– Vacuum horrendum [2] , – улыбнулся он.
Помню, что от этих слов холодок пробежал у меня по спине. Я стоял за полуоткрытой дверью.
Иногда матушка все-таки прогоняла меня на пруд, я брал с собой книгу и читал в лодке. От мельтешения солнечных пятен на воде и на страницах, от шума ветра, от запаха гниющей воды часто кружилась голова, и я засыпал, вытянувшись прямо на дне ялика.
Удивительно ли, что впечатлительный подросток видел на только что разрезанной странице вовсе не то, что выводила рука какого-нибудь мудрого мужа! Как-то ночью мне даже приснилось, как кто-то взлохмаченный выдирает себе пряжкой глаза. Но скажите, что мог понять лакомившийся малиной мальчик в притче о несчастном Эдипе? Помню, что я вдруг не смог смотреть на матушку. Мысль, столь омерзительная, что от нее делалось дурно, тем настойчивее лезла в голову, чем отчаяннее я старался отогнать ее. Я так мучился этим страшным невозможным видением, что даже не на шутку захворал. У меня начался жар, и когда матушка, испуганная моей неожиданной болезнью, захотела прижать мою голову к своей груди, я оттолкнул ее, вырвался, и со мной случилась нервная истерика.
Вакации пролетали незаметно, и надобно было возвращаться в Симбирск. Сборы с каждым годом становились все тягостней. В гимназии меня ожидали лишь одни мучения: скучная учеба, безотрадное общение со сверстниками, зависимость от недалеких учителей. К тому же с возрастом эти страдания увеличивались. Да и вообще нужно сказать, что общественное воспитание способствует только испорченности. Ибо учитель учит своим казусам, артикулам, датам, формулам и прочей белиберде, о которой ни разу потом и не вспомнишь, а уроки жизни преподаются за курением дешевого табаку в закоулках долговязыми переростками с гадкими волосками на угреватых подбородках. Юные души благоговейно внимают их грязным речам, похотливым мыслям, презрительным манерам. Ведь учатся жить не по примерам портретной добродетели. У мальчиков в гимназических тужурках свои герои, которые доблестно пьют водку, а больше хвастают пьянством, живописно, в подробностях рассказывают свои, конечно же, мифические, амурные похождения, на уроках переписывают вольнодумные, а чаще похабные стишата, находят удовольствие в жестоких проделках над инвалидом-истопником и вообще не без гордости называют себя magister bibendi [3] и вызывают среди гимназистов восхищение и подражание.Один из таких переростков, Николенька Мартынишин, по нечаянному замыслу тетки и должен был стать моим наставником в жизненной науке.
Она и матушка тяжело переживали мое одиночество, винили во всем чрезмерное чтение, мои детские хвори и решили, что меня нужно развеять природой и беззаботным юным обществом. Последние вакации решено было провести в Покровском, большом красивом имении на Волге, принадлежавшем старой тетушкиной подруге Александре Васильевне Мартынишиной.
В гимназии Николенька был бойким малым, всеобщим любимцем, главным подстрекателем и зачинщиком всех проказ, мастером строить комичные рожи и делать на каждого пародии. На переменах в укромных местах он смешил всех похабными историями, подчас очень неприличными, и сам про себя рассказывал, что заразился в одном доме нехорошей болезнью и вылечился от нее водкой. В домашней же обстановке Николенька сделался вдруг тихоней и паинькой, послушным, воспитанным, и стал от этого еще более противным, с вечно вздутыми губами, сальными, как две колбаски. Тетка моя называла Николеньку «лапкой», трепала по щеке и все время ставила его мне в пример.
Юное общество, на которое возлагалась надежда укротить во мне буку и выветрить задумчивость и запах переплетов, состояло, помимо Николеньки, из двух его кузин-близняшек Семеновых, долговязых писклявых девиц, находивших безмерное удовольствие в том, что их вечно путали, и соседской барышни, только что закончившей в Москве институт. Ее звали Дашенькой. Она была рыженькая и вся в ярких веснушках, даже шея и руки были обрызганы будто морковным соком.
Отец Николеньки, боевой офицер, умер от ран в славный двенадцатый год. Его сослуживец, уже немолодой капитан, приехал после Германии и Парижа к вдове своего друга рассказать о последних днях храброго драгуна, да так и остался в Покровском, сперва еще на неделю, потом на месяц, а там и вовсе. Федор Николаевич был заядлым охотником, предавался весь псовой охоте и неделями разъезжал с нею и роговою музыкой по уезду. Своего приемного сына он недолюбливал, называл его неженкой и рябчиком – так презрительно величали тогда военные штатских. Каждое утро начиналось с того, что Федор Николаевич окатывал Николеньку из ушата ледяной водой. Доставалось и мне. Тетушке было неудобно вступаться за меня, и она в окно с ужасом смотрела, как отставной драгун закаляет наши дряблые посиневшие тела.
После завтрака на широкой террасе, увитой диким виноградом, во время которого Николенька с близняшками обстреливали меня исподтишка хлебными шариками, но стоило только мне ответить, как тут же происходил скандал, – начинались бесконечные общие развлечения, катания, прогулки, от которых не давали увильнуть, хотя в пруду было полно карасей, а в грунту шпанских вишен. Вечерами начинались игры в жмурки, в колечко, в рекрутский набор, в почту, в цветы и прочие глупости. Действительно, в компании было весело, но смеялись большей частью надо мной. Много ли надо для того, чтобы быть смешным? Всего лишь краснеть и молчать, когда нужно быстро найтись в jeux d’esprit [4] . Ни с того ни с сего поскользнуться на вощеном полу. Среди обеда, коснувшись случайно под столом ножки Дашеньки, опрокинуть на себя ложку супа. Этого вполне достаточно для того, чтобы все, мною сказанное, оказывалось невпопад, любое мое движение или жест все находили комичным, любая острота в мой адрес вызывала дружный беззаботный смех. Особенно усердствовал Николенька. Номер, в котором он изображал, как я, задумавшись, съедаю салфетку, исполнялся на бис по сто раз на день. Близняшки хихикали до упаду, трепеща в такт бантами, рюшечками и кружевами на панталончиках, но громче всех заливалась Дашенька. Я краснел, молчал и растерянно улыбался, перенося все испытания стоически, а то и просто убегал куда-нибудь, ища уединения. Но едва караси начинали клевать наживку, как в воду летели камни или палки, а в оранжерее, стоило только сорвать с ветки вишню, как близняшки, караулившие меня, начинали кричать:
– Господин Обжоркин! Господин Обжоркин!
Девицы Семеновы даже на фортепьяно играли не иначе как в четыре руки, книксен делали дружно, как по команде, и казалось, им даже самим было все равно, кто из них кто.
На приставания Николеньки я отвечал проверенным снисходительным презрением, липучих девиц Семеновых гонял удочкой, но когда я слышал звонкий, невесомый смех Дашеньки, со мной происходило что-то непонятное, трудно объяснимое. Она смеялась надо мной, но ради того, чтобы слушать этот смех, я готов был корчить из себя дурака сколько угодно.
В дождливые дни мы валялись на задней веранде, на огромном диване, в подушках, вышитых попугаями, гоняли комаров и болтали; вернее, это они валялись, а я угрюмо сидел в плетеном кресле, уткнувшись в книгу, как сейчас помню, это были Паскалевы “Pensées” [5] со следами соскобленных восковых нашлепок. За окнами лил проливной дождь, из открытой двери летели с крыльца брызги и запахи мокрого сада. На диване дурачились, а я делал вид, что читаю, но сам только переворачивал страницы, потому что на самом деле слушал Дашенькину болтовню, жадно внимая всей той чепухе, которую она могла нести бесконечно. В мильон раз важнее ordre du coeur [6] занудного старика были мне ее рассказы об институте, о выживших из ума классных дамах, о девичьих проделках. Дашенькин голос, ее движения, взгляды завораживали меня. Институт свой она вспоминала без особой любви, даже презрительно, потому что за разговоры по-русски там украшали дурацким колпаком и десертом угощали лишь тех, у кого на руках были повязки – ленточки означали, что девица в течение недели хорошо училась и примерно себя вела. Дашенька пожимала плечиками и фыркала: