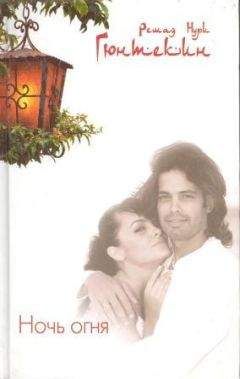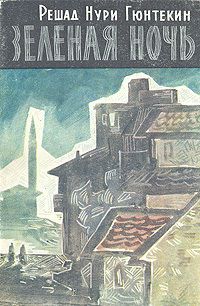Решад Гюнтекин - Зелёная ночь
«Большие, взрослые дети...— думал он, прощая им всё.— Разве они виноваты? Нет! Во всём надо винить тех, кто довёл их до такого состояния...»
И в нём ещё сильнее крепла вера в то, что страну спасёт только «новая школа».
Глава двадцатая
Прошло три дня. Никто из родных не осмеливался навестить Нихада в тюрьме.
Бедняга сидел в отдельной камере, изолированный от всех, словно был болен чумой или проказой.
Шахин-эфенди мучился, не находил себе места... Неужели гражданское мужество — это, можно сказать, основное связующее звено всего общества — уже нельзя встретить в этом городе? Чего только не передумал он, вспоминая несчастного Нихада и его злоключения, в конце концов он понял, что должен сделать всё возможное, чтобы помочь этому человеку. Пусть он не симпатизирует Нихаду-эфенди, пусть не одобряет его поведения, считая, что оно порочит высокое звание учителя, но людская несправедливость и жестокое насилие толпы — всё это возвеличило беднягу в глазах Шахина и превратило в героя-мученика. Конечно, он должен помочь этому человеку, одинокому и беззащитному перед несправедливой ненавистью всего города. Это гражданский долг каждого! И он умрёт от стыда, если не выполнит своего долга, пусть даже ему придётся действовать в одиночку... Да, он будет презирать себя всю жизнь, снедаемый угрызениями совести, как будто сам был соучастником этого гнусного преступления...
Когда Шахин рассказал о своём решении товарищам, они сочли его безумным.
— Ты с ума сошёл! Зачем тебе бросаться с открытыми глазами в огонь? Стоит оказать ему помощь, и ты уже скомпрометирован. Тебя сразу же обвинят в подстрекательстве или даже в соучастии. Все твои старания не дадут никаких результатов, только погубят тебя и его. Мы не можем допустить этого, ты нужный для нас человек.
Но Шахина-эфенди трудно было переубедить.
— Если я буду молчать, меня замучит совесть, я сгорю со стыда, — возразил он, печально улыбаясь. Голос Шахина был кроток и спокоен, так говорят люди, принявшие окончательное решение.— Ну, а надежды, которые вы на меня возлагаете... Что может сделать труп?.. Мертвец?.. Да, да! Если я отступлю перед такой несправедливостью, значит, я мертвец. Каких дел можно ждать от человека, павшего духом? Наверно, бессмысленно…»
Неджиб развёл только руками.
— Вот меня называют сумасшедшим. Но что я! Ты настоящий сумасшедший!
Шахин-эфенди весело рассмеялся.
— Давно пора было это знать...
Он пристально смотрел на товарищей, и в прищуренных глазах его плясали искорки лукавого смеха, точно он хотел сказать: «Вы же знаете, люди одержимые, мечтатели и фантазеры — самые великие безумцы».
— Прекрасно! Великолепно, Доган-бей,— насмешливо заметил Неджиб.— Не буду удерживать тебя от этой грандиозной глупости, которую ты намерен совершить. Ну что ж, попробую и я загадать на сон грядущий... А вдруг сумею тебе помочь,
На следующий день, завернув в узелок немного съестного и несколько пачек табаку, Шахин-эфенди направился к тюрьме.
Нихад всё ещё мучился от ран, полученных в ночь ареста и не заживших до сих пор. Под правым глазом у него красовался огромный сине-фиолетовый синяк, на щеке и около уха два кровоподтёка. Когда Нихад упал на мостовую, то рассёк себе губу и выбил два передних зуба. К тому же бедняга схватил в тюрьме сильный бронхит. Он отчаянно хрипел и кашлял. Словно пытаясь избавиться от головокружения, учитель тихонько постукивал себе по лбу и переносице мундштуком.
Шахин-эфенди обнял его, как старого приятеля, погладил по спине, передал ему гостинец.
— Я знал, что у вас нет близкого друга, однако думал, всё-таки найдутся приятели, которые навестят вас, справятся о вашем здоровье... Всяко бывает с человеком. Даст бог, и эта буря минует... Знаете что? Считайте меня своим братом. Можете рассчитывать на мою поддержку в эти чёрные дни...
Нихад-эфенди смотрел на него не только удивлённо, но даже подозрительно, он недоверчиво улыбался, слушая и не решаясь верить Шахину.
— Дай господь вам удачи... Ничего не понимаю! Послушайте, дружище, с какой звезды вы свалились? А может быть, вас сюда занесло из доисторических времён? Право, не сердитесь, но столь неожиданное человеколюбие кажется мне подозрительным.
Из всего, что было принесено Шахином, узника больше всего порадовал табак.
— Я до того плохо себя чувствовал, так всё болело, что мне ничего не нужно было, а тут ещё на беду табак кончился. Я уж даже подумывал, не вытащить ли из тюфяка щепотку травы и не свернуть ли из газетной бумаги цигарку. Да будут вами довольны господь бог, Келями-баба и Эйюб-ходжа! Вот именно все трое,— если в этом городе доволен только один из них, этого ещё недостаточно...
Несмотря на ужасный кашель, Нихад-эфенди отчаянно дымил. Он курил одну папиросу за другой и, казалось, постепенно оттаивал.
Старшему учителю Эмирдэдэ не терпелось скорее обсудить план спасения.
— Нихад-эфенди,— начал он,— расскажи-ка мне, что ты знаешь по этому делу... Мне тоже кое-что известно, я многое слышал. Подумаем вместе, всё взвесим... Может быть, найдём какой-нибудь выход.
«Ну что за наивный человек, словно ребёнок, а ведь бороду отрастил...» — Нихад-эфенди иронически сжал губы и сказал с горькой усмешкой:
— Какой выход? Чего тут думать? Тюрбэ я спалил, ну и что ж, понесём наказание!..
Не странно ли: два человека, едва знакомые, понимали друг друга с полуслова, точно дружили вечность. Нихад-эфенди не стал уверять, что поджёг тюрбэ Келями-баба не он, а Шахин считал излишним убеждать собеседника, что он не верит всем сплетням. Они улеглись на соломенной циновке, на полу друг против друга, и завели длинный разговор:
— Ты, Нихад-эфенди, когда прибыл в Сарыова?
— Да уж лет восемь — десять.
— Видно, не полюбился тебе ни этот город, ни народ его... Почему же не уехал в другое место?
— Не знаю... Несколько раз пытался, да всё не удавалось. Застрял, как в болоте... одну ногу вытащишь, другая увязнет. Тут ещё сделал превеликую глупость — женился, детворой обзавёлся. Вот поэтому, по правде сказать, не особенно-то и старался удрать отсюда. Я убеждённый пессимист — уж больно много на моем веку досталось мне всяких бед да несчастий. Не уверен, что другие места — товар получше, чем Сарыова. Ведь известно, если осёл попадёт даже на свадьбу, ему всё равно либо воду таскать, либо дрова... Что Сарыова, что другие города — один чёрт, А переезд — только расходы на дорогу...
— А почему тебя жители Сарыова невзлюбили?
— В этом они не виноваты... Я их не полюбил, так чего ждать взаимности... Впрочем, большого вреда я им не причинил... Я всегда был одинок, даже у себя дома. Хотите, удивлю вас! Я никого не люблю... даже учеников, которых мы называем своими детьми... Впрочем, это вполне естественно. Я даже к собственным детям не питаю особой привязанности. Но что я действительно люблю — так это свою профессию. И счастлив я бываю только во время уроков... А потом, по вечерам, я засовываю бутылку водки в карман и иду подальше в поле... Почему я так делаю? Изволь, могу сказать, ведь ты ни черта не смыслишь в выпивке... Пойми; пить водку там, где дышат воздухом дураки,— никакого удовольствия, так-то!
Нихад-эфенди немного помолчал.
— Вот я сказал, что не люблю своих учеников, а ведь меня так огорчил их поступок. Их слова причинили мне куда более сильную боль, чем камни, которые бросали в меня на улице. Самая непростительная глупость, самая бессмысленная подлость, которую могут совершать взрослые,— это натравливать учеников на учителя... Более того, они восстанавливают детей против отцов... Ты знаешь, именно поэтому испортились отношения между мною и моей семьей. Ложью, сплетнями они восстановили против меня жену и детей... Ну хорошо, пусть я недостоин уважения, не вызываю симпатии, расположения, но всему же есть предел...
Покашливая и сжимая виски пальцами, как будто у него болит голова, Нихад-эфенди продолжал:
— Знаешь, кого я увидел среди участников факельной процессии, устроенной той ночью в мою честь? Шестилетнего мальчика, сынишку моего Джемиля... Соседи привели его посмотреть на парадное шествие, которое совершал его отец с рогатой короной на голове... Да, да, я видел, как мой мальчик вместе со всеми радостно бил в ладоши и кричал: «Хей-хей! Вот участь поджигателя тюрбэ!»
Шахин-эфенди хотел узнать, о чём Нихада допрашивал следователь. Учитель стал подробно рассказывать:
— Прежде всего, он спросил, где я был в ночь пожара. Я ответил, что в поле, пил в одиночестве, домой вернулся поздно. — В следующий раз он сказал, что кое-кто видел меня перед вечерним эзаном, когда я проходил по кладбищенской дороге со свёртком под мышкой, а потом за полчаса до пожара меня встретил возле тюрбэ сын сторожа... А было все совсем не так,— продолжал Нихад.— Во время вечерней молитвы я сидел возле источника Байрам-Чавуш,— ведь это самое меньшее час ходьбы от города. Поблизости старик пастух совершал омовенье, потом стал молиться.