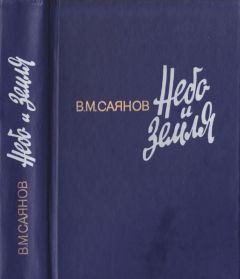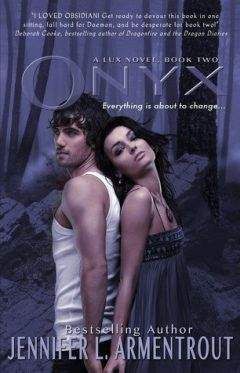Виссарион Саянов - Небо и земля
— Мне-то? — переспросил Победоносцев.
С каждым днем он становился молчаливей, но сейчас хотелось подробней говорить о пережитом.
С волнением вспоминал он события последних месяцев. Как и всегда, неприятности начались с дома. Отец ездил в командировку на Дальний Восток: в Маньчжурии свирепствовала чума. Иван Петрович думал, что только его дела, его личные заботы существенны и значительны, к прочему же привык с годами относиться иронически и снисходительно. Так и теперь — он ездил по Маньчжурии, и ему казалось порой, будто на свете нет ничего, кроме чумы. Страшна и тосклива была поездка по зачумленному краю. Люди боялись дышать, сам воздух таил в себе смерть, и каждую минуту можно было видеть перекошенные от ужаса лица, глаза, подернутые сероватой дымкой усталости и безразличия. Он впервые увидел Маньчжурию и чуть не заплакал от обиды и огорчения. Твердые каменистые дороги убегали в пыльный простор. В серой степной дали терялась граница между жизнью и смертью. Сурки-тарбаганы — переносчики заразы — неуклюже бегали по степи. Возле норок тарбаганов вырастали несуразные холмы, называвшиеся бутанами. На бутанах росла пыльная трапа. И над пламенеющей марью песков, над диким, нищим простором, над желтой землей шумели в полдень могучие крылья белоголовых орлов…
Иван Петрович видел чумные очаги в Худзяне и трупы на берегу Сунгари, сваленные огромной кучей, как камни или как дрова, — сквозь маску тяжело было смотреть на окостеневшие руки и восковые лица, на застывшие в страшных судорогах тела. Вечером трупы сжигали. Из огромного пожарного насоса их поливали керосином. Дымное пламя, треща, поднималось к небу. Вороны каркали вдалеке, чуя добычу. По-шакальи, заунывно и протяжно, выли собаки.
На руках у Ивана Петровича умерла молодая женщина, фельдшерица, приехавшая из Москвы, — она просила перед смертью, чтобы ей принесли букет полевых русских цветов. Ее сведенное судорогой лицо навсегда врезалось в память Ивана Петровича, и, возвращаясь в Петербург, он несколько дней не мог прикоснуться к еде.
В Петербурге, встретившись с Леной и сыном, сидевшим без дела после поездки по Уралу, Иван Петрович был особенно сух и неразговорчив. В первый же день он поссорился с Глебом из-за какого-то пустяка.
Однажды вечером он позвал Глеба к себе.
— Ну, вот что, — сказал он сыну, — меня интересует, как ты собираешься жить. Ведь жизнь трудна, а ты не думаешь ни о чем.
Сын стоял возле книжного шкафа, высокий, упрямый, с крупными веснушками на носу, с подстриженными ежиком волосами, — и все-таки до мельчайших черточек похожий на мать. Это сердило Ивана Петровича, и он раздраженно всматривался в лицо сына, стараясь найти в нем собственные черты.
— Молчишь? Мыслимое ли дело? Я тебе говорю просто и ясно: иди учиться. Не хочешь на медицинский, иди на юридический. Хоть историей займись, хоть санскритом, но выбей только дурь из своей головы… Я уже стар и говорю с тобой серьезно… Ты не знаешь жизни… За последние три месяца я видел тысячи трупов… Тот, кто лицом к лицу видел смерть, лучше понимает живое.
Он замолчал, выжидая, что скажет сын, но Глеб не отвечал, только губы его вздрагивали.
— Так как же?
Глеб усмехнулся и тихо сказал:
— Я уж сам как-нибудь обдумаю свою жизнь. Понимаю, тебе нелегко, ты беспокоишься за меня, тебе кажется странным, что я, как говоришь, решил стать воздушным извозчиком. Но выбор в жизни мы делаем всегда сами, — и у меня такой же упрямый характер, как и у тебя. Нет у меня другой жизни, кроме авиации. Именно летчиком буду, не профессором, не конструктором, а летчиком, человеком у руля… Сейчас к авиации несерьезно относятся, правительство на летчиков как на обыкновенных спортсменов смотрит, но настанет пора, когда летчик станет самым знатным человеком в стране.
Отец пожал плечами, хотел было продолжить спор, но вдруг засмеялся и громко сказал:
— Ты прав: упрям в меня и по-моему. А в общем — живи, как хочешь…
В тот приезд в Петербург так и не сказал Глеб отцу и сестре о своей помолвке…
Через несколько дней Глеб подписал новый контракт с Хоботовым и снова отправился в гастрольную поездку по провинции, — на этот раз уже по городам юга.
Поездка началась неудачно.
В Ростове-на-Дону механик запил горькую, целые дни плясал в номере, лез целоваться и, вздыхая, рассказывал о своей разгульной юности. Дальше Глебу пришлось ехать одному. С механиками ему не везло: то попадется лодырь, то ничего не понимает в моторе, и в большинстве городов приходилось пользоваться услугами случайных людей. Жалованья от Хоботова Победоносцев получал, кроме дорожных денег, сто рублей в месяц, а в выручке от полетов отчитывался Васенька, приказчик Хоботова, поссорившийся с Глебом Ивановичем в первый же день знакомства. Приказчик жил во всех городах отдельно от летчика и встречался с ним только на ипподромах, где происходили полеты.
В Баку Победоносцев приехал без механика.
— Может, тебе моего дать в помощь? — спросил Тентенников.
— Буду очень благодарен.
— Хорошо. А я буду попросту зрителем.
* * *Летать пришлось при сильном встречном ветре. Победоносцев медленно набирал высоту, глядя сверху на большой заполненный толпой ипподром, и, сделав семь кругов, решил спускаться, чтобы захватить пассажира. Ветер усилился. Сильным порывом ветра аэроплан качнуло влево. Прежде чем он успел выпрямить «фарман», новый порыв ветра повернул аппарат вправо.
«Фарман» ударился о небольшой холмик. Толпа шарахнулась к аэроплану. Женщины бились в истерике. Плакали дети. Конные полицейские теснили людей к трибунам. Залитый кровью, с переломанной ногой, Победоносцев лежал без сознания под обломками «фармана». Приехал извозчик. Тентенников и механик положили на линейку Победоносцева и повезли в больницу.
Врач долго осматривал окровавленное тело летчика и сказал наконец, поправляя очки:
— Выживет. Крепко сложен. Левая нога переломана, а прочее — не очень существенно. Родственники здесь? Ногу положим в лубок…
— Никого нет у него в Баку, — сказал Тентенников. — Я уезжаю сегодня, вещи его, если надо, привезу сюда, деньги оставлю, а вас уж попрошу его выходить…
Васенька, не забежав даже в больницу, дал Хоботову телеграмму о ранении Победоносцева и гибели «фармана» и вечером выехал в Петербург. Тентенникова ждали в Елизаветполе, и через два часа он уехал из Баку с тифлисским поездом.
Очнувшись через несколько дней, Победоносцев увидел вокруг себя чужих людей, белые халаты сиделок, белые стены больницы и закрыл снова глаза. Положенная в лубок нога не двигалась.
«Неужели безногий?» — со страхом подумал Победоносцев и закричал. К нему подбежали сиделки, подошел случайно находившийся в палате врач.
— Что с ногой? — простонал Победоносцев, пытаясь приподняться на локте.
— Пустяки, ничего страшного, — успокоил врач, — и всего-то вам полежать придется с месяц.
— А «фарман»?
— Что? — переспросил врач, не понимая, о чем спрашивает больной.
— Аэроплан, говорю, что?
Врач устало мотнул бородой.
— Разбит вдребезги…
Победоносцев знал, что Хоботов не простит ему аварии.
Вечером пришли две телеграммы — одна от Лены: «Читала в газетах расстроена телеграфируй здоровье нужно ли приехать»; другая от Хоботова — короткая и выразительная: «Глупо сам виноват», последние два слова были почему-то написаны вместе.
Победоносцев выздоравливал медленно, но настал, наконец, день, когда он смог ходить, опираясь на палку.
* * *Глеб снова вернулся в гостиницу, в которой жил с Тентенниковым. Катастрофа на бакинском ипподроме разбила надежды Победоносцева. Денег на покупку собственного аэроплана не было, о помощи Хоботова не приходилось и думать. Победоносцев решил вернуться в Москву и начать там хлопоты по устройству на работу в аэроклубе, где требовались инструкторы для обучения новичков полетам.
Он приехал в Москву утром, нанял извозчика и сразу же направился к Наташе. Подъезжая к Лубянке, он увидел огромные клубы синего дыма, поднимающиеся вверх со скоростью футбольных «свечек».
— Горит? — спросил он извозчика.
— Стало быть, горит, — уныло ответил. тот, причмокивая.
— Да где хоть горит?
— Должно, в галерее горит. Да мы-то увидим, как по Петровке поедем…
Пробиться к Петровке было нелегко, — отовсюду бежали люди, ехали извозчики, спешили ломовики. Толпа, собравшаяся на перекрестке, медленно подступала к Александровскому пассажу.
— Осади! — кричал пристав, крупом коня тесня суетившихся зевак.
Теснимая полицейскими, толпа бросилась в конец Неглинной. Передние догнали пролетку, на которой ехал Победоносцев, и опрокинули ее. Падая на землю, Победоносцев вскрикнул от боли.
Очнулся он уже в больнице. Левая нога снова была в лубке и страшно болела.