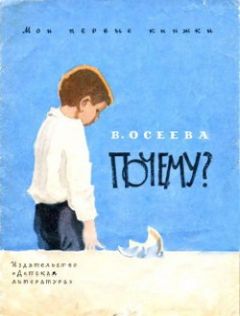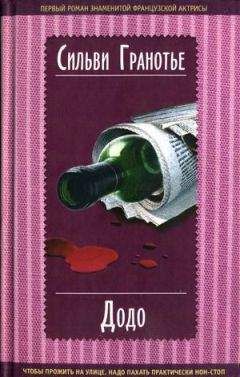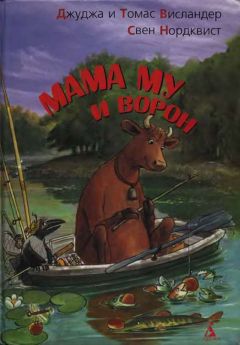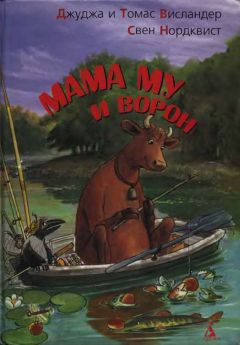Лейла Вертенбейкер - Львиное Око
— Нашли кого-нибудь? — спросил сторож, когда мы протянули ему пропуск. — Нет? В следующий раз повезет.
Мы долго сидели на скамейке возле реки. Высыпавшие на набережную парижане праздновали первый день весенней погоды и, задрав носы, вдыхали влажный воздух. Мимо проплыл битком набитый bateau-omnibus[39]. Даже нищие, казалось, готовы были запеть.
— Если я когда-нибудь совершу самоубийство, — произнес я, когда пришел в себя, — это произойдет оттого, что зацвели каштаны. Не быть счастливым весной в Париже считается преступлением.
— Все равно жить надо, — заметила Герши, — в конце концов человек и так умирает.
Мы ходили в морг четыре дня подряд. Несколько трупов стали нашими старыми знакомыми. Герши была очень спокойна и говорила, что с работой в качестве натурщицы у Гийоне вполне справляется. По вечерам изгнанники встречались как обычно. Стул Григория был придвинут к столу. Анри, официант, поинтересовался, что с ним, но мы ответили, что не знаем. Мишель справился о нем на последнем месте работы и у домохозяина, но тот равнодушно проговорил:
— Юноша? Ничего о нем не известно.
Все мы начали злиться на Григория.
— Окаянный бесенок, — возмутился я. — Сначала запер нас, а потом загулял. Развлекается, а мы тут все с ног сбились.
— Больше не пойдем, — твердо заявил я Герши, направляясь в морг. — Мы ведем себя глупо, воспринимая этого сопляка всерьез.
Григорий стоял спиной к реке, похожий на силуэт дерева, залитый солнцем. Чтобы привлечь внимание, он поднял руку и направился в нашу сторону. Я начал бранить его, но вдруг увидел, что он весь в синяках и кровоподтеках.
— Меня не пустили туда, — едва слышно проговорил юноша, приблизившись к нам на достаточное расстояние, — хотя я убеждал служителей, что я труп. Рад, что застал вас. Пожалуйста… — Он попытался улыбнуться распухшими губами. Замелькали руки Герши. — Ангел мой, — прошептал Григорий. — Верь мне…
— Я тебе верю, — также шепотом проговорила Герши.
Шли мы медленно, поскольку Григорий хромал. Наконец поймав извозчика, мы помогли юноше подняться на высокую подножку. Я подставил руку Герши, которая села рядом, и сообщил извозчику адрес своей квартиры на бульваре Ричарда Уоллеса. Я вез их на свою квартиру, куда никогда раньше не приглашал к себе товарищей по изгнанию. Жилище было составным элементом моей личной жизни, и я не желал допускать туда никого. Но к этим двоим я относился как к своим детям, и для них я был «папа Луи».
— В Нейи я не поеду, — заявил кучер. — Это по ту сторону Булонского леса. Слишком далеко.
Забравшись на облучок, я произнес:
— Трогай. Мальчишка болен.
Отпустив тормоз, кучер скомандовал лошади:
— Поехали, Мари-Жанна. Пятнадцать франков.
— Грабитель, — ответил я. Рысцой просеменив мимо ратуши, лошадь свернула на улицу Риволи.
— Сколько шуму, — сказала мне на ухо Герши.
Родившись и выросши в Париже, я редко обращал внимание на шум, но теперь прислушался. Цокот копыт по булыжной мостовой и брусчатке; велосипедные звонки; треск моторов и гудки клаксонов; выкрики уличных торговцев, похожие на клики птиц; звон пожарных карет; свистки полицейских. Слышались голоса извозчиков, то и дело затевавших перебранку и отпускавших крепкие словечки с таким видом, словно исполняют арии из опер. Кучера гордились своим l'abondance du vocabulaire injurieux[40].
Григорий держался за железный поручень, а Герши разглядывала покупателей, толпившихся у лавок, потом завсегдатаев кафе, сидевших за столиками по обеим сторонам Елисейских полей. Когда мы проезжали мимо Большого и Малого дворцов, она принялась крутить головой, разглядывая здания.
— Розовое с серым, серо-голубое, серо-зеленое, пурпурное с серым, — бубнила она. — Очень красиво, правда?
Услышав, как я отпираю дверь, навстречу мне поспешила Мари. Лицо у нее было багровое, она на ходу завязывала тесемки своего фартука.
— Горячую ванну не хочешь принять? — спросил я у Григория.
— Больше всего на свете, плутократ, — проквакал Григорий, держась за горло. — Но когда начнется революция, я повешу тебя на трубе.
— А после него — меня, — проговорила Герши. Приняв изящную позу, она поглаживала подлокотники стула, разглядывала висевшие на стенах гобелены и старинный ковер фабрики в Шайо, хрустальную люстру и окно, из которого виден был газон и кусты у стены. За стеной возвышались деревья Булонского леса.
В ожидании обеда (подгонять Мари было бессмысленно) я поинтересовался у Григория, где его так разукрасили.
— Разве ты не был боевиком-роялистом? — спросил он.
— Был, — ответил я. — В молодости.
— Ты бил людей?
— Нет. Рука не поднималась.
— Почему? Почему ты стал роялистом?
— «Король и родина», — пожал я плечами. — Запечатанные конверты, оставленные у консьержки. «Прочти и уничтожь» и прочие атрибуты. Заговоры. За то, что едва не затеял потасовку, я даже просидел ночь в камере и попал в официальный бюллетень.
— Чтобы доказать, что настоящий мужчина, — заметил Григорий. Я вздрогнул, словно от удара. — Спой мне их песню.
— Дружище…
— Спой мне ее!
— Спой ему! — приказала Герши, гладя легкими, как пушинка, пальцами руку Григория.
Чувствуя себя идиотом, я запел:
Да здравствуют камелоты, сторонники короля!
Долгой жизни им, крепких рук!
Презреть закон — что может быть слаще.
Долгой жизни им, крепких рук!
Да здравствует король, к черту республиканцев,
Да здравствует король, на виселицу грязную свинью!
Когда свинью вздернут на соседний фонарь,
Весь Париж будет танцевать…
— А остальное забыл. Поют по-разному. Какая-то чушь собачья.
— Благодарю, — насмешливо проговорил Григорий. Один глаз у него распух и гноился. — Хотел убедиться, что не зря старался. Выходит, не зря. Я сломал одному роялисту-камелоту нос, и мы с ним оба попали в одну и ту же больницу. Мне это занятие понравилось. Я поставил его на место.
— А кто это — грязная свинья? — спросила Герши, сжимая Григорию пальцы.
— Французская Республика, — ответили мы одновременно.
— Надо достать жавелевой воды для Григория, — заметила Герши. — На нем живого места нет.
— Я еврей и революционер, — заявил Григорий. — Я предпочитаю, чтобы меня били. А вел себя как казак и фараон. Вы покормите эту скотину, то есть меня?
На обед были поданы фаршированные томаты с гарниром, дичь под коньяком на вертеле, жаркое с картофелем, луком и зеленым горошком. Мари с наслаждением наблюдала, как мы расправляемся с приготовленными ею блюдами.
— Молодой человек попал в аварию? — произнесла она, скосив глаза на Григория.
— Это переодетый принц, — ответила Герши с набитым ртом. — Только никому не говорите об этом.
— Ни за что, — заверила Мари и сделала реверанс.
— Наполни мой стакан, — сказал Григорий и, поворачивая бокал, стал наблюдать, как отражается свет в хрустале. — Надо насладиться этим бургундским, пока не успели совершить на меня покушение.
— Аххх, — в экстазе воскликнула Мари.
— Ты тоже инкогнито, — проронил Григорий, протягивая свой бокал Герши. — Ты невинная маленькая девочка.
Не в ту ли ночь Герши танцевала у меня в гостиной в нижней юбке и сорочке, обрезанной так, чтобы обнажился живот, повязав на бедра один шарф и намотав на голову другой, наподобие тюрбана? Вполне возможно. У меня до сих пор сохранились записки, которые я нацарапал на своем секретере эпохи Людовика XV. Я написал: «Марре…» и «мадам Блан». Марре был антрепренером, а мадам Блан — костюмершей. Мне надо было знать свой штат. Эта девица, черт бы ее побрал, не умела танцевать, но, видит Бог, в ней было нечто такое, за что зрители были готовы платить свои деньги. Это произошло в тот вечер или после него.
Григорий лег спать с примочкой на глазу, которую приложила ему Мари. Я помог раздеть его, а Герши обработала антисептиком раны на руке. При виде израненного юношеского тела я пришел в ужас. Нет, ни за какие коврижки я не вступлю в ряды тех, для которых любовь к ближнему — пустой звук.
Пока он спал, мы с Герши сидели у камина. В моей элегантной, но холостяцкой квартире была лишь одна кровать. Под утро, расположившись на диване, я получил от этой полуженщины — полудевушки свои крохи радости, устроившись у нее между ляжками. Я не могу проникнуть в женщину. В ее преддверии меня покидают и воля, и мужская сила. Когда я был мальчиком, одна гулящая женщина заставила меня разглядывать все ее прелести («Ты отсюда вылез, сюда и полезай», — пошутила она), тем самым положив конец развитию во мне мужского начала. Впоследствии женщинам удавалось доставлять мне наслаждение тем или иным способом, но Герши не предпринимала в отношении меня ничего; она позволяла делать мне все, что мне заблагорассудится, и ничего не требовала взамен. Вот что я имел в виду, когда заявлял, что был ее любовником. Я попросту хвастался. Думаю, она пожалела меня, и больше я никогда не разрешал ей этого делать.