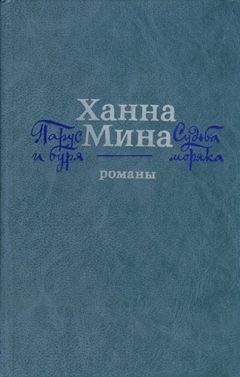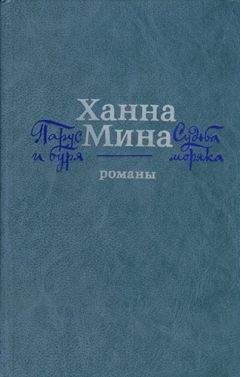Евгений Сухов - Кандалы для лиходея
– Да, – ответил Самсон Николаевич. – Любил я этого пса…
– Хорошо, – устало сказал Иван Федорович. – Распишитесь здесь и здесь…
– Что со мной теперь будет? – убито спросил Козицкий.
– Суд будет, – ответил Воловцов.
– А потом? – Голос Козицкого заметно дрожал.
– А чего вы ожидаете? – удивившись, пожал плечами Воловцов. – Потом этап и каторга…
Козицкий закрыл лицо ладонями. Плечи его вздрагивали.
– Боже, – услышал Иван Федорович шепот арестованного уже не по подозрению, а по совершению убийства. – Боже…
* * *По приезде в Рязань Ивана Федоровича ожидало письмо. Дело об убиенном мальчике Коле Лыкове и пропаже его руки получило новое продолжение, совершенно неожиданное…
А произошло вот что. Двадцать шестого июня, ближе к вечеру, когда солнце, подумав, не пора ли ему плыть за горизонт, склонилось-таки к решению: да, пора, четверо карпухинских девиц, как обычно, решили позабавиться самым ходовым деревенским лакомством – полузгать семечки подсолнечника. Но грызть семечки без задушевного разговора – впустую добро переводить. Присели они на лавочку возле избы Лукьяна Матюшкина, где обычно по вечерам собиралась сельская молодь, и ну косточки всем парням перемалывать. Досталось и Лукьяну, какового на селе звали не иначе как Лукашкой, поскольку уважения на селе он не имел, ибо за крестьянской работой его никто никогда не видывал, да и ремесла никакого он не знал. Зато Лукьян Матюшкин лихо наяривал на гармошке, мог сбренчать и на балалайке, коль кто просил, да и деньжата у него водились, невесть откуда взятые, посему водочка в его доме не переводилась и можно было завсегда у него угоститься. А какое без водки на селе веселие? Словом, жил Лукашка весело и пьяно, и парней сельских мог завсегда приветить, не за просто так, конечно, а за какую-нибудь услугу. Вот и собирались возле его избы сельские парни и девчата, места веселого и хмельного. В ночь-полночь к Лукашке можно было зайти запросто ежели не по делу, так просто для какой-то забавы или для разговора. Бывало, что приходили парни с девицами для тайных свиданий – всех привечал Лукашка! Словом, парнем был своим в доску. Дружбу же Лукашка с деревенскими особо ни с кем не водил, хотя знался и приятельствовал со всеми ворами и конокрадами аж всей волости, а может, и всего уезда. Случалось, что приходилось видеть в его дворе незнакомых пришлых людей, а то и лошадок, невесть кому принадлежавших, верно, краденых. Заявлялись к нему несколько раз даже с обысками, да вроде ничего особого не находили. Словом, жил Лукашка как хотел, и все-то ему сходило с рук. Не присмирел, даже когда взяли под стражу его приятелей Павла Тулупова да Коську Малявина. И едва не каженный вечер звучала в избе Лукашки или на улице его веселая гармошка…
К четверым сплетницам вскоре подошла пятая товарка. А свободный конец лавки, на которой сидели девки, то ли грязен был, то ли птицами загажен. Тогда девица подошла к крытому соломой Лукашкиному сараю и выдернула пук соломы, чтобы смести ею конец лавки. Вместе с пуком вывалился и какой-то сверток.
– Чур, мой! – кинулась к свертку со смехом крайняя девица, что сидела на лавке.
– Какой же он твой, ежели я его нашла, – резонно ответила товарке выдернувшая пук соломы девица и наклонилась над свертком. Однако сидевшая на лавке опередила ее, быстро наклонилась, схватила сверток и размотала грязную красную тряпицу, похожую на шейный платок…
Такого крика, верно, не слышали на селе со времен Отечественной войны двенадцатого года, когда шестеро французских дезертиров во главе с капралом Дормалем, невесть как забредших на околицу Карпухино, изнасиловали девицу Марфу Самоляпину сорока восьми лет от роду. После чего сбежались на крик сельские мужики, взяли французов в плен и отмутозили их до полусмерти, в особенности того, что попался им со спущенными штанами. За такой геройский поступок каждый из мужиков – заступников Отечества и девической чести – получил по пяти рублев наградных денег и благодарствие от самого генерал-губернатора графа Иннокентия Борисовича Каменского.
Почему закричала лузгавшая семечки девка? Да потому, что в ситцевой тряпице, бывшей некогда красным платком в белый горошек, лежала… обескровленная и высохшая детская ручка, отрезанная по локоть. Была она иссиня-багрового цвета, мумифицированная, как выразится впоследствии судебный врач, и заканчивалась пальчиками, отчаянно сжатыми в кулачок…
Орущая девка отбросила от себя сверток и отскочила от него, будто в ногах у нее имелись пружины. Вслед за ней, увидев засушенную руку, завизжали в испуге остальные селянки. Картина и впрямь была ужасная. На крик и визги вышел из избы с руганью и матом сам Лукашка Матюшкин, увидел сначала сбившихся в кучку девок с выпученными глазами, потом отрезанную руку, лежавшую на земле возле лавки, и побледнел. Затем спешно поднял руку, замотал ее тем же грязным платком, сунул за пазуху, да было уже поздно. Так в плотном окружении девок, проклинающих душегубца, да разгневленных мужиков, сбежавшихся на крики к дому Матюшкина, и простоял Лукашка до самого прихода полицейского урядника недвижимым столбом. И тотчас был заарестован.
Конечно, Антонида и Степан Лыковы были спешно вызваны из Мочалова и, горюя, признали в отрезанной руке рученьку своего убиенного сына Коленьки. Это впоследствии подтвердил и медицинский осмотр, сличивший руку с выкопанным трупом Коли. А в тряпице, в которую она была завернута, Лыковы, нисколько не сомневаясь, признали тот самый красный ситцевый платок в горошек, что купил на базаре Степан и который в тот злосчастный день повязала на шею сына Антонида Григорьевна. Запираться Лукашке было без пользы, и он попросился на допрос. Следовало немедля выезжать в Карпухино. Вот так, не проведя и дня дома, Иван Федорович поехал в Карпухино. А собственно, и собираться было не нужно, ибо собранным приехал. Даже переодеваться, в принципе, не было нужды. Правда, чистую рубашку и исподнее Иван Федорович все же надел. Перекусил, доложил прокурору об обнаружении трупа главноуправляющего Попова и признательных показаниях Козицкого и отбыл снимать показания с Лукьяна Матюшкина, покудова горячо, иначе, пока преступник сам просится.
А такое, судари, случается не всякий день…
* * *Уже по приезде Воловцова в Карпухино настоятельно напросился на допрос Петр Самохин, дядя убиенного Коли Лыкова, и едва его ввели, буквально повалился следователю в ноги. Он рассказал все. Как поехал, будучи навеселе, из Мочалова в Карпухино к Павлу Тулупову и встретил на выезде из села своего племянника, попросившего его прокатить. Как посадил Колю на телегу и незаметно для себя довез его до Карпухино, а там привез к Тулупову, надеясь вечером вернуться вместе с Колей домой. У Тулупова Самохин застал Коську Малявина. Они делили какие-то деньги. Поделив их, Коська побежал за водкой и пивом, и затеялась в доме большая попойка. За угощением и разговорами незаметно наступила ночь, и Петр решил остаться с племянником до утра.
Пьянка продолжалась и ночью. А потом Тулупов и Малявин завели разговор, который Петр уже слышал от них не впервые, что неплохо бы заиметь «живую руку» и с нею безнаказанно проделывать дела, поскольку с такой рукой ни за что не попадешься. Потом поначалу обиняками и намеками Павел и Коська стали говорить, что Коля вполне для такого дела подходящий: и непорочен, и сладить с ним будет легко, ведь младенец почти. А главное – его никто на селе не видел. Так что, если он и пропадет, никаких путей-тропинок к ним вести не будет. Ну а когда, дескать, у них будет «живая рука», заживут они, как князья-дворяне. Нет, много богаче! На золоте будут есть, из золота пить…
Петр сам не помнил, как он оказался в санях вместе с Тулуповым, Малявиным и Колей где-то в поле. Потом они пили водку прямо из горлышка, и Коля хныкал и просился домой, а Тулупов с Малявиным говорили ему, что до Мочалова осталось совсем немного, и скоро оно, дескать, уже покажется на виду. Потом снова ехали куда-то, что Петр помнил смутно, затем выскочили на большак, тащились по нему и повернули куда-то в сторону, доехав до края оврага.
Вышли. Тулупов и Малявин вынесли плачущего Колю на руках, схватили его крепко, а потом… То, что случилось потом, мерещится Петру каждую ночь, выпивши он или трезв, и он уж и не ведает, было это на самом деле или ему грезится. Потом Тулупов и Малявин обнажили Колину руку до локтя, в руках у Тулупова сверкнуло что-то белым и холодным, и этим он коснулся руки мальчика, после чего послышался крик, не детский, не человеческий даже, а вопль ужаса, который и доселе звучит в ушах Петра. Этот крик привел Петра в чувство, и он уже отчетливо помнил, как Тулупов, запрокинув головку мальчика, с которой слетела шапка, полоснул по шее бритвой одним резким ударом…