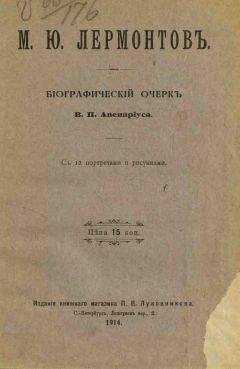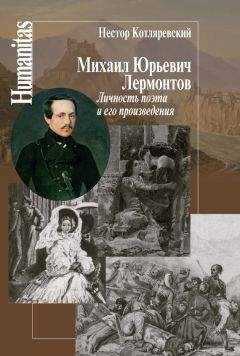Исай Калашников - Последнее отступление
В 1907 году его арестовали, судили и отправили на каторгу. Юлия осталась одна, на руках дети — сын и дочь. И тут ему открылось ее новое качество — полная неспособность противостоять повседневным трудностям, конечно, очень нелегкого быта. В письмах она жаловалась, что ей мало помогают его товарищи, денег не хватает. Он знал, что товарищи делают все возможное, и просить от них большего просто бессовестно. Письма Юлии мучили его хуже всякой неволи…
И вдруг тайными путями до него дошла весть, страшнее которой и вообразить себе невозможно: Юлия стала провокатором. Он не поверил этому, потребовал расследования. Все, к его горю, подтвердилось. Товарищам даже удалось установить, что в списках агентов охранки она значилась под кличкой «Ворона».
После Февральской революции Юлию будто бы расстреляли. А где дети, что с ними, этого он не знает до сих пор и вряд ли узнает, пока все не успокоится. Сразу же, как только упрочится положение Советов, он поедет их разыскивать. Но когда оно упрочится?
…В Совете еще никого не было. В коридоре, на ящике, привалившись спиной к печке, мирно спал старый солдат. Винтовку он зажал меж колен и крепко стиснул корявыми пальцами. Хмурясь, Серов постоял над ним, стер платочком со стекол пенсне мучнистую пыль, негромко сказал:
— Тревога!
Винтовка, чиркнув штыком по стене, повалилась на пол. Солдат подхватил ее, передернул затвор и, испуганно тараща обессмысленные сном глаза, пробормотал скороговоркой:
— Где тревога? Почему тревога?
Открывая дверь своего кабинета, Серов услышал, как солдат, оправившись от испуга, топчется за его спиной, смущенно покашливает.
— Ты что-то хочешь сказать, Куприяныч?
— Мы тут, Василь Матвеич, можно сказать, самые старые большевики, — хитровато начал он. — Держи, ради бога, в тайности мой грех — засмеют, проходу не дадут антихристы.
— Ладно. Но на посту, давай условимся, не спать. Время, сам знаешь, какое.
— Да уж как не знать! — вздохнул солдат. — Поганое время. А вздремнул я не от лености. За день уработаешься — кости спокою требуют.
— Ты днем работаешь? Почему?
— Прирабатываю сапожным рукомеслом. Цены на харчи — ужас, а у меня детвы полна изба. Пять гавриков своих да три братовых. На ерманской брата уложили, а баба его сама по себе померла. Вот кручусь…
— Подожди. — Серов сел к столу, написал комиссару продовольствия Сентарецкому записку. — Вот возьми и передай Тимофею Михайловичу. Будешь получать на ребятишек по фунту муки в день.
— Взаправду? Спаси тебя бог, Василь Матвеич! — с бумажкой в одной руке и винтовкой в другой, он быстрым шагом пошел к дверям.
За окном, мутным от пыли, ветер крутил песок, тормошил голые еще ветви чахлого тополя и тоскливо, надоедливо выл в куске водосточной трубы, свисавшей с крыши на проволоке. «Надо было попросить Куприяныча оторвать трубу совсем», — подумал он, но вскоре позабыл и о вое ветра и о пыли, застилавшей подоконник. Хлеб… Как накормить сирот, красногвардейцев, рабочих? Вчера провели учет всех запасов. Хлеба мало. Если ничего не предпринять, не хватит и до лета. Но если бы только хлеб беспокоил его! Банды атамана Семенова сделали первую попытку изгнать Советы из Забайкалья. Разбитые под Шарасуном, они снова укрепились за рубежом, в Маньчжурии, быстро пополнили свои силы и вот-вот перейдут в наступление. По последним сведениям, у атамана десять тысяч пеших и конных головорезов, вооруженных японскими винтовками, пушками и пулеметами. И сами японцы от угроз перешли к действиям. Во Владивостоке высажен десант. Контр-адмирал Хирахару Като опубликовал обращение к населению; с восточной витиеватостью командующий японской эскадрой заверяет, что он питает «глубокое чувство к настоящему положению России» и даже — подумать только! — «желает немедленного искоренения междуусобиц и блестящего осуществления революции». Вот ведь куда хватил! Адмирал желает другого: «блестящего осуществления» давних замыслов правителей Страны восходящего солнца — прибрать к рукам весь восток России.
А на западе? По всему сибирскому железнодорожному пути растянулись части контрреволюционного чехословацкого корпуса. Здесь и малой искры достаточно, чтобы вспыхнул пожар.
С востока японцы, с юга Семенов, с запада белочехи, и помощи ждать неоткуда. Никто не даст ни хлеба, ни бойцов.
Зазвонил телефон. Серов снял трубку. Сквозь шум, писк и треск еле пробивался голос командира красногвардейцев Жердева.
— Я говорю из штаба… Тут пришли военнопленные. Что-то толмачут, а я ни черта понять не могу.
— Но чего они хотят?
— Не могу уловить. Они по-русски плохо петрят, а я по-ихнему и вовсе не кумекаю. Вроде бы жалуются на плохое питание.
— Присылай сюда.
С времен войны за городом, в Березовке, находился лагерь для военнопленных мадьяр и австрийцев. До Февральской революции большевики поддерживали с некоторыми из пленных связь, но после свержения самодержавия сочувствующие большевикам перебрались в Омск, там организовался вроде бы центр пленных интернационалистов. Связи с лагерем прервались, а установить новые, когда не хватает людей и на более неотложную работу, было невозможно. Что происходит в бараках лагеря, Совет знал плохо.
Пленные, три солдата в потрепанных шинелях и разбитых ботинках, вошли в кабинет, по-военному вытянулись перед Серовым. Молодой белобрысый солдат, тщательно подбирая слова, заговорил:
— Кушать даваль мало. Жить — плехо…
То, что жить им «плехо» — не новость. Совет недавно был вынужден урезать без того скудную норму довольствия. И не только пленным, но и солдатам Березовского гарнизона, красногвардейцам.
— Мы желает поезд ехать. — Чернявый пленный, худощавый и жилистый, со строгим взглядом черных глаз, показал рукой на запад. Третий, голубоглазый коротышка, подтверждая слова товарища, кивнул головой.
— Все понятно, — по-немецки сказал Василий Матвеевич. — Но пока правительство не решит вопрос о вашем возвращении на родину, вам придется оставаться здесь.
— О, ви говорит по-немецки! — изумился и весь просиял белобрысый. — Гут, ошень гут! Я — Франц Эккерт. Он, — ткнул пальцем в чернявого, — есть из Унгариа. Андраш Ронаи из Унгариа. А он, — кивок в сторону короткого, — Курт Шиллер. Он не есть… как это… велики Шиллер, он есть маленький зольдат! — Франц засмеялся весело и непринужденно и, смеясь, с обезоруживающей откровенностью признался: — Мы ехаль туда, где кушай есть лучше.
Рассеянно улыбаясь, Василий Матвеевич напряженно думал, что сказать этим солдатам. Было бы просто здорово отправить их и тем самым сберечь хлеб, но этого нельзя сделать, пока не ясно, как поведут себя чехи. Если они выступят против Советов, эти ребята, даже против своей воли, окажутся вместе с ними, им всучат в руки оружие и пошлют убивать. С другой стороны, удерживать силой — бесполезное дело. По одному, по двое они могут сбежать все. Сила тут не годится.
Серов стал расспрашивать, чем они занимались до войны. Все трое, как выяснилось, были рабочими: чернявый, неулыбчивый мадьяр — токарь из Будапешта, белобрысый весельчак — столяр-краснодеревщик, маленький Шиллер — жестянщик.
— Вы понимаете, что происходит в нашей стране? — спросил Серов.
— Да, — коротко ответил Андраш Ронаи.
Василий Матвеевич решил, что самое лучшее рассказать им всю правду о своих опасениях. Выслушав его, пленные переглянулись. Маленький Курт беспокойно переступил с ноги на ногу.
— Найн! Воевать — хватит. С чехами мы не пойдем. Вы нам не враги.
— Но и не друзья. Вот вы недовольны пайком. А наши товарищи получают больше? Как же вы, рабочие, не понимаете таких вещей? — вспомнив Куприяныча, Серов сказал это, может быть, резче, чем следовало.
Пленные смутились.
— Да, да… — веселый Франц перестал улыбаться, прижал руку к груди, проговорил, словно извиняясь: — Тут — с вами. Но… как это… страна есть ваша, мы есть чужой.
— Вот уж чепуха! Вы посмотрите, кто помогает нашим буржуям — японские, английские, французские буржуи. Это что значит? Наша революция бьет и по ним. У всех рабочих враг один!
— Так, правильно, — твердо сказал Андраш Ронаи.
— А раз правильно, помогайте нам. Мы вас возьмем в Красную гвардию, дадим оружие.
Помолчав, пленные обменялись взглядами.
— Делать разговор с товарищами, потом сказать, — за всех ответил Франц. — Меня писать — сразу.
Проводив пленных, Василий Матвеевич достал из стола тетрадь, испещренную цифрами. Зерно продовольственное… семенное… фураж… Не успел углубиться в цифры, прибежал Жердев, бледный, с перекошенным от гнева лицом, бросил на стол увесистую пачку денег.
— Полюбуйтесь! Сентарецкий берет взятки.
— Ты с ума сошел! — Серов вскочил из-за стола, шагнул к Жердеву. — Откуда ты взял? Что за чертовщину несешь?