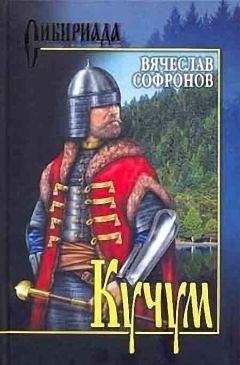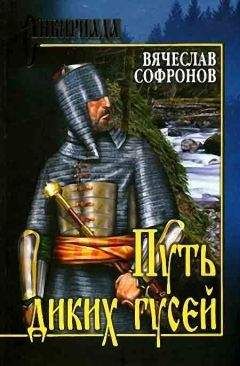Борис Дедюхин - Василий I. Книга 2
— Как же ты ее приготовишь? Истолчешь в порошок заморский камень лазурит?
— Я покажу тебе! — пообещал Феофан. — Видишь, уже огни за деревьями, моя слобода.
Греки, жившие в Таганской, слободе, готовили пищу под открытым небом на треножных подставках, которые называли по-своему, по-гречески, таганами, отчего москвичи и слободу их так обозначили.
При свете ближнего костра Феофан вытащил из кармана шубы нательный четырехконечный крестик, выточенный из синего с белыми прожилками камня. Крестик был старый, правый конец перекладины наполовину отбит.
— Вот смотри, Андрейка, ляпис-лазурь… Камень сей меди в себе нимало не содержит и из металла только несколько железных частиц в себе имеет.
— Откуда он у тебя?
— Был тут купец наш один… Ушел.
— Туда ушел?
— Да, в мир забвения ушел он, а когда заканчивал свои земные расчеты, отказал мне этот крест, который он выменял когда-то на прежний свой золотой у одного русского в Подолии — побратались они в какой-то тяжкий час жизненных испытаний.
— Как же можно, Феофан?
— Что такое, Андрея?.. Вот пойдем поближе к костру. Секрет сейчас тебе расскажу. Одному тебе, потому как только ты один и достоин…
— Так ведь крест-то нательный?
— Вэрно! На Божье дело и пойдет, куда как с добром! — Феофан оглянулся с подозрением на подходившего к костру кашевара, снизил голос до шепота. — Это, Андрейка, не просто сделать. Надо лазурит прежде на огне прокалить, отчего цвет его станет гуще. Дробить и отмывать надо в различных маслах и в воде, а только потом уж растирать, понял?
— Понять-то понял, но как же ты будешь калить крестик?
— Обыкновенно, в тигле.
— Да нет, не то… Ведь это же — крест, это — представительство жизни будущей, загробной и блаженной, а ты…
— Эка!.. Не восьмиконечный же, не православный, а латинский крыж.
— Все одно, его же два православных человека на груди носили… Купец твой с ним перенес страдание и смерть, ушел с верой в будущее счастье и радость, а ты — «в тигле» все это хочешь спалить! Не надо, не делай этого, Феофан!
— Э-э, кабы Бог послушал худого пастыря, так весь скот бы выдох!
— Я не браню тебя, взываю лишь, крест перейти — грех на душу.
Феофан смотрел на Андрея и не понимал его — это ясно было и по недоумевающему взгляду его, и по тем словам, которыми он бездумно отговорился.
— Много ума — много греха, а на дурне не взыщут.
Андрей помолчал, подождал, не скажет ли еще чего-нибудь Грек, а не дождавшись, молча повернулся и пошел прочь от костра. Дошел до дороги, и тут его догнал Феофан. Бежал по следу быстро, но не запыхался, задержал Андрея, схватил цепкими пальцами за рукав нагольного тулупчика:
— Слушай, Андрей… Я вот не видел чудного старца, святого Сергия… Он похож, я думаю, на тебя, такой же…
— Какой — «такой же»?
— Ну, как бы малахольный, что ли…
— Это вас, греков, дразнят малосольными! отшутился Андрей, но Феофан не отставал:
— Епифаний Премудрый говорит, что Сергий стяжал паче всех смирение безмерное и любовь нелицемерную равно ко всем человекам, и всех вкупе равно любляше и равно чтяше, как Епифаний говорит, не избирая, не судя, не зря на лица человеком и ни на кого же не возносяся, не осуждая, не клевеща, не держа ни на кого злобы, ни ярости, ни гнева, ни лютости.
— Да, я был в его послушании и знаю: правду пишет Епифаний про Сергия… Чудный старец, верно, исполнен смирения безмерного, тих и кроток так, что ему вовсе чужды гнев или ярость, жестокость и лютость Он незлобив без всякой примеси хитрости Знаешь, бывают люди себе на уме, а он нет он, как Епифаний говорит, имеет «простоту без пестроты», он исполнен любви не лицемерной и нелицеприятной ко всем людям без разбора…
А правду Епифаний рассказывает, будто Сергий в отрочестве, до святости, не брал с собой ни кнута, ни погоныча, а скот единого слова его слушался?
— Даже и медведи, приходившие к нему потом на Маковец, кротко трапезу из рук его принимали. Есть самовидцы этого.
Феофан зябко втягивал голову в волчий воротник, переступал ногами на хрустком снегу, но не уходил. Андрей чаял, что Грек затем догнал его, чтобы сказать о своем согласии не калить в тигле лазуритовый крестик, но Феофан, воздев очи небу, молча рассматривал холодные сгустки звездных сияний, изморозь Млечного Пути — невидимой глазу простого смертного, но ведомой каждому христианину дороги Богородицы ко Христу в рай. Но все же, видно, было что-то у Грека на уме, имел он что-то сказать Андрею. И сказал:
— А ты вот молитву в соборе тростил, мне вовсе не знаемую… Про то, что мы исчезнем, «как утренняя роса»?
Андрею приятно было, что Грек столь внимателен и приглядчив, что сумел оценить тонко и проникновенно выраженную в молитве терпимость и Божью снисходительность к людям, ответил с удовольствием:
— То обращение ко Господу первого митрополита из русских Иллариона.
— Видишь вот. и святые у вас свои, и молитвы тоже русские… Изографов ваших я тоже встречал и в Новом Городе, и в Суздале. В Москве тоже… А если еще и ты образуешься, когда съездишь в святые места Учись, только помни, что нельзя на доске или фреске допускать изображений, производящих воспламенение нечистых удовольствий.
— Разве же бывает такое? — искренне удивился Андрей.
И тут наконец раскрылся Феофан, сказал то, что так долго таил:
— Кирилл с Белого озера приезжал ко мне и не захотел икон моего письма брать — говорит, что излишне телесны, осязаемы у меня святые. Как, говорит, у латинян непотребство. Но какое же у меня непотребство, а-а? Ты вот в Рим попадешь — увидишь: византизм в живописи подвергается там гонению, вместо святых пишутся грешные человеки и грешного же обличья — фигуры тут и тут с выпуклостью, абы живая плоть, и даже одежда не простая на них, а в складках. Не в таких, как у меня, не светом да тенью, но многоцветьем усложненных, письмом многослойным углубленных, дабы телесность человечья сквозь них угадывалась. Один флорентийский изограф Варвару-великомученицу срисовал с лиходельницы, а в Деве Марии — подумать только, в Деве Марии, единственной женщине в мире, допущенной к трону Бога! — свою полюбовницу, известную блудницу изо-образ-ил… Нэ-эт, этому не учись! Бегом беги подальше от них, как я сбежал в вашу чистую, святую Русь. Вы любите, чтобы и в песнях, и в сказаниях, и в живописи все было пристойно, целомудренно. И это — я понял, я знаю! — не от глупости или отсталости, а от уважения святынь, вы даже ведь и что-то непотребное в жизни умеете обсказать со скромностью. И уж так это мне любо, что я Русь как родину приемлю. И обидно мне слышать, да еще от такого богоуветливого человека, как Кирилл, будто в моих досках непотребство имеется… Нэт, ты скажи, Андрея, рази есть непотребство у меня?
— Нет, нет никакого непотребства у тебя! — горячо заверил Андрей, — Зело смело ты пишешь, это — да, так смело, что иной раз я смотрю и мураши по телу… И то, конечно, видно, что не простые то люди на фресках и досках твоих — сильные и телесно, и духовно. — Думал Андрей, что этих слов ждет от него Феофан, но оказалось, что в душе Грека была еще одна потайная дверца, оказалось, что не просто отрицания непотребства желал он услышать, но нужна ему была похвала, нужно было признание его первым и единственным изографом — он спросил прямо:
— Скажи, писал ли кто-нибудь когда-нибудь иконы лучше, чем я?
Андрей не нашел вопрос Феофана ни смешным, ни дерзким, ни наивным: он слишком хорошо понимал душу этого художника, понимал, чувствовал, что в его обыкновенной, человеческой и хрупкой груди горит пепелящий огонь, держать который в затворе выше сил смертного; огонь этот то охватывает творца пламенем чудовищного по напряжению труда, то возносит его в славе и в счастье, то бросает ниц, как последнего изгоя рода человеческого, а то вот делает слабым и сомневающимся, тщетно борющимся со своими слабостями и требующим немедленного слова полного и безусловного ободрения.
Феофан ждал ответа, опять запрокинув голову, рассматривая Моисееву дорогу, состоящую из несчетной бездны звезд. Понужнул негромко, не очень уверенно:
— Ну-у, что же ты молчишь?..
И тут подумалось еще Андрею, что потому-то, наверное, и пишет лики Феофан так, потому-то, знать, убеленные сединами старцы на его досках не в силах преодолеть внутреннего разлада, вечного страха искуса и гордынности. Но это же ведь — страх искуса и гордынности — грех превеликий, которого не должно быть в душе божественного творца!.. Андрей сам испугался сделанного открытия и, конечно же, не посмел эту свою догадку высказать, а на нетерпеливый повторный вопрос Феофана сказал только:
— Ты пишешь так, как никто не писал. Я признаюсь, что ты потряс меня и перевернул во мне все представления об изографической хитрости. Ты великий живописец: все плоско писали, ты первый делаешь с выпуклостью и без непотребства. Я знаю, как ты это делаешь, я люблю смотреть на твою работу, но сам, если бы меня когда-нибудь вразумил Господь, не стал бы так писать — такими мазками, широкими и небрежными словно бы, с такими бликами, без ясных форм, зыбко так, призрачно… Нет, не стал бы!