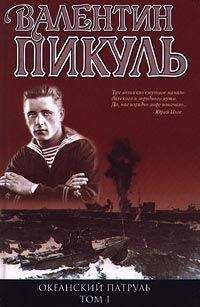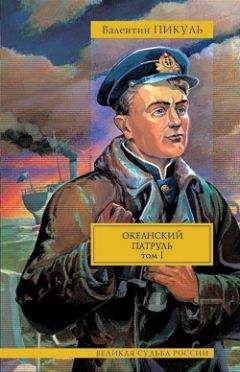Валентин Пикуль - Океанский патруль. Книга 2
— Сердешный ты, — пригорюнилась тетя Поля, — как же ты живым вышел оттуда?
— И не спрашивай, — отмахнулся солдат. — Кости все перебиты, зацинжал сильно. Меня, вишь ты, вчистую демобилизовали. На родину еду, на Псковщину…
— Да ты бы сразу эдак-то сказал. У тебя и денег-то, наверное, нету?
— И то правда, — весело согласился солдат. — Денег всего четыре рубля. Ну, думал, поторгуюсь…
— Так пойдем ко мне, эвон коттедж мой стоит на взгорье. Пойдем, уж чем-чем, а рыбой-то я тебя угощу!.. А ты в плену старичка такого не видывал?
— Величать-то его как прикажешь?
— Мацута, Антон Захарович.
— Не припомнить. Может, и видел когда… Пришел солдат в дом, сел у комода, осмотрелся.
— Хорошо живете, — заметил.
— Жили раньше, — ответила Полина Ивановна.
— Заживем еще! — бодро откликнулся солдат.
За столом, аппетитно обгладывая жареные куски рыбы, солдат рассказывал:
— Сейчас, мать, дело такое, что только беги. Вот и бежит народ. Финский-то фронт, — слышала небось? — словно шинель на мне, по всем швам расползается. Наш брат-пленный и пользуется… По лесам, горам да болотам только костры наши и светятся. А из плена-то самого на «ура» бежим. Знаешь, как это?.. А вот: выведут нас, допустим, на работу, мы уже все сговор держим, «ура» крикнет кто-либо, и — врассыпную… Ну, конечно, человек пять недосчитаемся. Тут уж дело такое, робкий лучше не лезь…
— Робкий он у меня, — сказала тетя Поля.
— А я тоже был из этого десятка. Коли жить под немцем не хочется, так поневоле осмелеешь… Тут такое уж дело, мать! — твердо повторил он, по-крестьянски собрав со стола крошки.
И когда он ушел, этот солдат, тетя Поля вдруг почувствовала себя легче. Ночь проспала спокойно, а наутро проснулась с новым настроением. Ей все время казалось, что кто-то должен прийти, она кого-то ждала, но — кого?..
Вечером навестила дочку Аглаи и наказала старому смотрителю:
— Ты, Степан, время от времени заглядывай ко мне. А вдруг придет он, а меня нету, — я снова в море уйду! А я — жду…
— Кто придет-то? — удивился Хлебосолов.
— Ясно кто! Или не понимаешь?
— Невдомек мне.
— Ну, это твое дело. Только заходи.
И смотритель, внимательно посмотрев ей в лицо, сказал:
— Ладно! Зайду… Ты не беспокойся… Или вон Анфиску пришлю — у нее ноги помоложе…
Около смерти
«Ну вот, — подумал лейтенант Рикко Суттинен, — одна-две минуты — и все будет кончено… Все, что было!.. Так, пожалуй, и лучше…»
И, подумав, он вытолкнул из-под ног березовый чурбан, тонкая петля сразу захлестнула шею. Ему показалось, что он слышит, как хрустят хрящи его горла, потом боль рванулась откуда-то из груди — впилась в самую макушку головы.
Мрак тяжело нахлынул сверху, раздавил сознание, как поганую лягушку.
И оттуда же, сверху, откуда свалился мрак, кто-то грубо крикнул ему:
— Вставай, девка!
Суттинен медленно открыл глаза. Он лежал на полу, а обер-лейтенант Штумпф стоял над ним, широко раздвинув толстые ноги, и крутил в руках концы разрезанной веревки.
Ударом сапога советник отбросил в угол березовый чурбан, снова крикнул:
— Вставай!.. Я никому не скажу!
Рикко Суттинен поднялся, шагнул к столу, налил водки.
— Судьба, — сказал он, растирая горло. — Видно, не суждено посмотреть Туонельского лебедя!..
Он осушил стакан, и его тут же вырвало.
— Ну вот, — брезгливо поморщился Штумпф.
— Плевать! — сказал Суттинен, вытирая подбородок, и крикнул денщика: — Вяйне! Поди сюда, вытри…
— Допился, — продолжал советник, — пора бросить.
— А я брошу! — запальчиво крикнул Суттинен. — Я еще не конченый… Я еще все могу… Я брошу, вот это — последнее!
Он снова налил себе водки и выпил. Денщик с тряпкой в руках стоял на пороге, не уходил — ждал: вырвет господина лейтенанта или не вырвет?
На этот раз не вырвало, и Суттинен успокоенно сказал:
— Ну вот… Клянусь: это — последнее!
Он встал и, нахлобучив на голову кепи, вышел. Штумпф сел к окну, долго смотрел, как по улице, пошатываясь, идет лейтенант Суттинен; вот он остановился, потом завернул к крыльцу дома, в котором размещался полковой капеллан.
«Тоже мне святоша нашелся! — подумал советник и тяжело, с надрывом вздохнул. Хотелось есть, но консервы и жареные грибы надоели. — А не лечь ли спать?» — и он завалился на походную койку, скрипнувшую под его грузным телом. Но сон не приходил, в голову лезли неприятные мысли…
Обер-лейтенант Штумпф был опытным офицером, воевал уже четвертую кампанию, он хорошо понимал и видел то, чего еще не хотели видеть многие его соратники. Так ему, например, было ясно, что наступление Красной Армии на этом участке фронта — от Киимасярви до Канталахти — уже началось. Некоторые офицеры еще упорно продолжали верить в официальную версию о невозможности русского наступления в Лапландии и Северной Карелии; считалось, что все основные силы русских стянуты на центральном фронте. Однако обер-лейтенант думал иначе. Русские уже не раз доказывали, что способны вести наступление по всему фронту, и они наступают здесь, в Карелии!
Да, они наступают… Штабные офицеры не хотят верить в наступление, ибо не видят в нем той бурной стремительности, какой отмечены все предыдущие прорывы русских в Белоруссии и на Украине. «Болваны!» — злобно думал Штумпф, и койка снова скрипела под ним. Ведь на этот раз русские наступают незаметно, как-то исподволь. Их легкие подвижные отряды просачиваются через болота и леса в тылы финских войск, сеют там разброд и смятение; чего же еще ждать, если недавно они ворвались на броневике даже в Вуоярви, ранили самого командира пограничного района…
«Не понимают, — озлобленно решил Штумпф, подумав про финнов, — не понимают, что наступление уже началось… А сами отползают к старой границе… Идиотство!»
Примерно так же думал и войсковой капеллан, когда на пороге его комнаты появился лейтенант Суттинен. Отложив путеводитель по Карелии с раскрытой картой, на которой капеллан отмечал «свой» путь отступления вместе с армией, он внимательно выслушал офицера.
Суттинен долго и путано говорил о близости конца, который страшит его, о неизвестности дальнейшего, которое страшит его, о затянувшейся войне, которая страшит его тоже. Страх — это слово часто повторялось им, и капеллан, кладя на голову офицера пухлую белую руку с агатовым перстнем на мизинце, сказал:
— Сын мой, вижу, что гнетет тебя души смятение, но забыл ты, сын мой, что воин не должен страшиться смерти. Сладко и отрадно погибнуть за нашу Суоми, и ворота рая всегда открыты для павших на поле брани. А еще, сын мой, смерть не страшна потому, что конец любой жизненной повести естествен и прост — это сама смерть…
Но, промучившись с лейтенантом целых полчаса, переходя от ласковых увещеваний к угрозам, капеллан ничего не добился и, уже изменив своему апостольскому тону, сказал с прямолинейностью солдата:
— Вот что, лейтенант, хватит! Я сейчас налью вам водки, и отправляйтесь к себе, уже поздно…
Суттинен выпил; оправдывая себя, решил: «Ладно, это последнее, сегодня можно, а уж завтра…» Шагая по темной грязной улице, почти трезво раздумывал: Суоми кончает войну, она терпит поражение, вслед за которым не следует ожидать ничего хорошего и ему, двадцатисемилетнему парню, члену грозных когда-то партий «Шюцкор» и «Союз соратников СС».
На штабном крыльце стоял капрал Хаахти и, перегнувшись через перила, плевал кровью.
— Ты чего? — спросил лейтенант.
— Губу разбили, сволочи…
— Кто?
— Да вот, взяли около озера, их сейчас Штумпф допрашивает…
Суттинен шагнул в дверь, бегло осмотрел пленных.
— Откуда? — спросил лейтенант.
— Задержаны во время обхода постов, — сонно ответил Штумпф, — спали в стогу сена… Говорят, что бежали с рудников. Документов нету, а оружие есть…
И он захохотал, как всегда, совсем некстати. Один из пленных, одетый в длиннополую, густо заляпанную грязью шинель с чужого плеча, сказал по-немецки с каким-то странным акцентом:
— Я нашел этот пистолет… вместе с шинелью…
Капрал Хаахти появился в дверях, ткнул кулаком в спину второго пленного, почти старика, в ватнике и зимней шапке.
— Песок сыплется, — сказал он, — а дерешься, собака!..
Суттинен взял шкурку лисицы, лежавшую перед Штумпфом на столе, потеребив пальцами рыжеватый мех, привычно определил:
— Лапландская… Такие в Финмаркене. И печально вздохнул, вспомнив отцовский питомник черно-бурых лисиц в Тайволкоски, старую кормилицу свою…
После взрыва никелевого рудника «Высокая Грета» пастора арестовали немцы. Эту тяжелую для отряда весть принес дядюшка Август. Улава настаивала на дерзком налете среди ночи на здание комендатуры, где находился арестованный Руальд Кальдевин. И как ни было горько Никонову, он все же не дал согласия на эту рискованную операцию, понимая, что такой налет может стоить больших жертв.