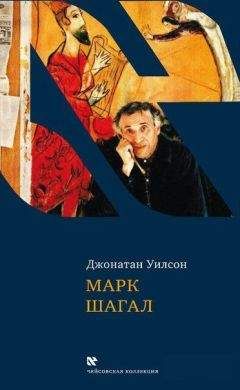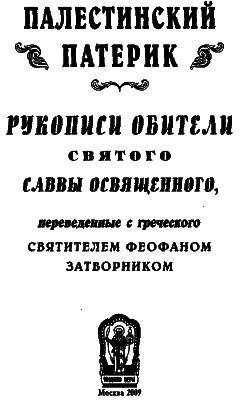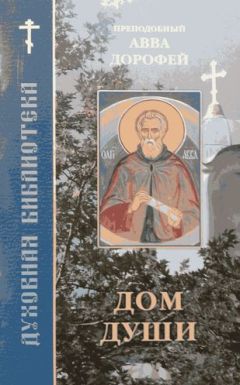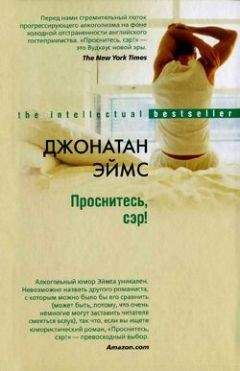Палестинский роман - Уилсон Джонатан
— Черт, — Фрумкин старался сохранять спокойствие, но он весь кипел. — Это не игра. Мы здесь творим историю.
Он произнес это в точности так же, подумала Джойс, как когда-то: «Мы здесь снимаем фильм», обращаясь к актеру на Иерусалимской стене — кажется, это был сам Тит, — который со страху вцепился в зубцы башни и ни в какую не соглашался их отпустить, чтобы помахать руками.
— Вы прекрасно знаете, что здесь происходит, и знаете, что случилось в Яффе три года назад. Кровавая бойня [65]. Полсотни вновь прибывших сходят на берег, пять ночей в общежитии, а потом — теплый прием — ваши соседи пускают в ход ножи, а местная полиция — винтовки. Перестрелку устроили они. Арабские, чтоб им, полицейские. А парни вроде вашего Кирша считают, что нужно играть по-честному. Представьте, что винтовки имеются не только у арабской полиции, а теперь так оно и есть. Нам тоже нужно вооружаться. Вы это должны понимать. Когда наступит момент, здешние евреи смогут за себя постоять. Поверьте, когда гром грянет, две сотни британских копов не смогут защитить евреев.
— А когда этот момент настанет? Потому что тогда я бы предпочла быть подальше отсюда.
— Не прямо сейчас, но настанет. Вы к этому времени уже сделаете свое дело, за что все вам будут безмерно благодарны.
Фрумкин поднялся. Он был высокий, под метр девяносто, с широкими мускулистыми плечами и тонкой талией. На нем была рубашка из тонкой материи, вне всяких сомнений дорогая, но из-за облегающего покроя он выглядел в ней этаким мальчишкой-переростком.
Он встал за спиной Джойс, положил руки ей на плечи и ласково сказал:
— Итак, больше никаких винтовок. Все, что от вас требуется, это один раз встретиться с майором. А не захотите продолжать — не надо. Что вы теряете, в конце концов?
И, зарывшись лицом в ее пышные белые волосы, поцеловал ее в шею.
— Ты золото, Джойси, — пробормотал он.
30
Кирш уже мог ходить с палочкой. Если все пойдет нормально, доктор Бассан выпишет его из больницы в конце недели. Каждый день он чуть увеличивал заданное расстояние. В это утро он прогуливался по внутреннему дворику. В нем стояли четыре койки: туберкулезные больные обычно принимали там солнечные ванны, но сейчас только одна была занята. Узкие кровати с пологами были завешены квадратными хлопковыми экранами, их верхняя часть оставалась открытой, чтобы больные грелись в целебных солнечных лучах, оставаясь при этом в уединении.
Медсестра вынесла во двор раскладушку. Перед тем как ее разложить, закатала рукава белого халата. Должно быть, новенькая, подумал Кирш. Он раньше ее не видел. Милая, опрятная, с бледной кожей — наверное, недавно приехала. Волосы у нее были собраны в узел. Она дважды прерывала работу, чтобы поправить белый чепец. Она исчезла в дверях. затем вернулась, неся на руках маленькую девочку Девочка была в ботинках и черных чулочках, на голове платок в красно-черную клетку. Медсестра бережно уложила ее на раскладушку. Девочка тотчас повернулась на бок и натянула край белой простыни на лицо. Медсестра осторожно поправила простыню.
Киршу было понятно желание девочки спрятаться от посторонних глаз. Ему и самому не хотелось показываться людям, во всяком случае большинству. И тем не менее он не мог не помочь. Он сделал несколько неловких шагов по гравию.
— Ну-ну, — сказал он девочке. — Не прячься. Солнышко полезное.
— Рахель не послушается, — ответила медсестра. — Она каждый день так.
Рахель тем временем выглянула из-под самодельного полога. Кирш решил, что ей лет восемь-девять, не больше.
— Я послушаюсь, — сказала она на ломаном английском и закашлялась.
Молодая медсестра отогнула край простыни, и на этот раз Рахель не сопротивлялась и дала медсестре отереть заляпанный кровью подбородок. Кирш взглянул на лицо Рахель. Ее миндалевидные глаза смотрели в одну точку. Она знала, что умирает.
Кирш стоял у парапета и смотрел на крышу соседнего здания, где было что-то вроде садика. Стол заменяла канистра из-под бензина, накрытая вышитой салфеткой, на ней — полевые цветы в банке из-под повидла. Через незавешенное окно можно было заглянуть и в комнату — безупречно чистую, прибранную, вещей всего ничего: белая кроватка и стопка книг на полу. Этот незамысловатый уют — сейчас, после аварии, которой завершились его приключения, — растрогал его до глубины души.
— Вам бы хотелось там жить?
Медсестра подошла и встала рядом.
— Сейчас я бы не отказался. Хотя моя съемная квартира тоже довольно уютная. Быть может, эта комната так радует глаз, потому что меня там нет.
Кирш тут же пожалел, что пожаловался, пусть и непрямо. Ведь кровью кашлял не он.
— Простите, — пробормотал он. — Я не должен был…
Он взглянул на медсестру — наверное, она считает его эгоистом. Та улыбалась. Ему понравились ее ясные карие глаза и живое выражение лица.
— Вы имеете полное право жалеть себя, — сказала она. — Вы здесь уже давно лежите.
Он не мог разобрать ее акцента — может, русский, но уже чуть смягченный ивритом.
— Я по сравнению с вами, наверное, тут старожил.
— Между прочим, я уже работала здесь, когда вас привезли.
Значит, она видела, какой он был жалкий — весь переломанный и окровавленный.
— Как вас зовут?
— Майян.
— Я Роберт Кирш. — Правой рукой Кирш по-прежнему опирался на трость. Он протянул левую руку, но, поскольку нетвердо стоял на ногах, покачнулся, и вышло, будто он не пожал ей руку, а вцепился в нее.
Майян улыбнулась и крепко сжала его руку.
— Я знаю, кто вы.
Безнадежно влюбиться в медсестру — что за банальность! Сколько тысяч раненых, возвратившихся с войны, пережили подобное. Роберт вспомнил фронтовые письма Маркуса, полные хвалебных гимнов «нежным взглядам» и «бессонным бдениям» над ранеными и умирающими. Теперь пришел его черед убедиться, как все просто бывает. Если бы не Джойс, он бы сию минуту влюбился, прямо здесь и сейчас, жарким иерусалимским днем, под сиплый кашель туберкулезников.
— Капитан Кирш, — окликнули его, — к вам пришли.
Он отпустил руку Майян и обернулся. Он втайне надеялся, что это Джойс, хоть и знал, что надеется напрасно.
Естественно, это был Росс, не Джойс. Губернатор, в тропическом белом костюме, с букетом бледных лилий в руке — чем не ангел, несущий Благую весть, но в колониальной версии, подумалось Киршу. Какую весть он принес? Это был, наверное, уже десятый визит Росса в больницу, и если в первые пять посещений все сводилось к вопросам о здоровье Кирша, выражению сочувствия и подбадриванию, то последующие беседы, окольно, не напрямую, касались вопроса, который Росс не мог задать в лоб: кто, как думает Кирш, в него стрелял и почему? Кирш заметил, что Росс стал мастером по части недомолвок: разговор о недавних бунтах, казалось, чудесным образом переключался на последние новости о крикете из Англии; свежие подробности того, как полицейский участок справляется без Кирша, будто случайно, но довольно ловко, перемежались «юмористическими» историями о том, как Росс недавно репетировал хор из Вагнера с группой престарелых русских монахинь из монастыря Вознесения. Кирш чувствовал, что Россу не надо мешать, пусть себе болтает. Быть может, Киршу следовало ему сказать, что его излишняя деликатность — напрасная трата времени (он так и слышал, как Росс говорит жене: «Парню надо дать время, пусть придет в себя сначала»), потому что на самом деле его не интересует, кто и за что его чуть не убил. Дело в том, что за время болезни все мысли его были устремлены в другом направлении — он думал о Джойс. Но пока он ничего не говорил об этом Россу, предоставив губернатору самому задавать направление их сумбурных бесед.
И вот Росс опять здесь, протягивает цветы Майян, как будто ей их принес, а не Киршу, и вновь Кирш почувствовал в манерах губернатора нервозность, как будто тот что-то утаивает.