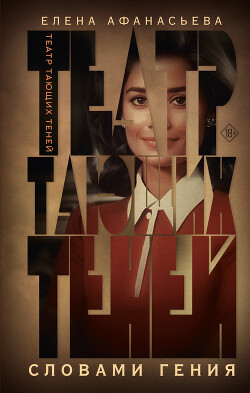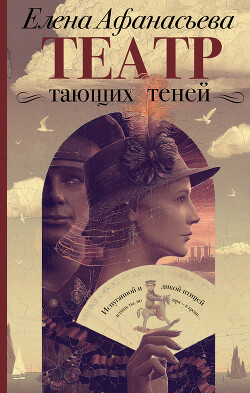Театр тающих теней. Под знаком волка - Афанасьева Елена
Дочку, как и ее саму в детстве, больше всего интересуют краски.
Муж рисунки девочек баловством считает.
— Незачем тебе краски.
— Дал бы ей немного, пусть пробует. Разве жалко? — вступается за дочку Агата, вспомнив, как отец учил ее видеть свет — откуда идет, как ложится, как с тенью мириться не хочет.
Но муж не отец.
— Баловство одно и перевод краски! Подрастет Йонас, учить его буду, после подмастерьем возьму, там и до члена Гильдии, бог даст, дорастет. А на девку переводить краски! Баловство одно! Тихо сиди, не ерзай!
— Посидишь?
Девочка тяжело вздыхает, но всё же быстро-быстро кивает. Конечно, она посидит! Даже если и не дадут краски! Конечно, она посидит! Как можно не посидеть в таком волшебном мире, где все рисуют и где живое переходит на холст и от этого не перестает быть живым.
— Давай жакетик и капор снимем. — Агата помогает дочери.
В мастерских, спасибо Гильдии, дров не жалеют, с октября уже камины протапливают.
— Сиди тогда смирно, чтобы господин Фабрициус тебя писать мог.
Счастье в глазенках девочки. На всё согласна. И тихо сидеть, и жакетик снять.
— Только, — тихо добавляет мать ей на ушко, — если пи́сать захочешь, шевелиться не бойся. Встань и беги папе скажи. Всё лучше, чем нарисуют, как ты описалась. Поняла?
Убирает капор и жакетик в сторону. Целует вкусно пахнущую головку дочери, зачем-то добавляет.
— Не скучай!
Хотя знает, ее дочка в мастерских скучать не будет. И выходит.
Часы на Новой церкви долгим гулом отбивают четверть. Три четверти часа до полудня. Домой скорее вернуться, разделать свиной окорок, который Бритта принесла с рынка — ради важного покупателя муж на свиной окорок расщедрился.
Путь до дома недолгий. Без коротеньких детских ножек Агата пройдет его в два раза быстрее. Но так ли нужно быстрее?
Или лучше пойти «долгой» дорогой вдоль реки Схи?
Посмотреть, как такое разное осеннее солнце в траве играет.
Ей же удалось отсыпать в мешочек немного охры из красок мужа. И немного кармина со стола Фабрициуса стащила прямо в карман. А дорогой ультрамарин с прошлого раза у нее припрятан. Она еще успеет поставить в печь окорок, покормить Йонаса и подняться в опустевшую комнатку в мансарде. Успеет сохранить этот свет. Только теперь еще немного на него наглядится.
— Агата!
Знакомый голос вырывает ее из волшебного забытья. И захлестывает какой-то спокойной радостью.
Агата поворачивается.
Йоханес. Сын хозяина здешней гостиницы. Моложе ее на целых пять лет. Учился у ее мужа, когда она только приехала в Делфт. И вроде было это недавно. А не виделись с ним давно.
— Йон! Какой ты стал… взрослый.
Скрыть бы теперь улыбку. Увидит еще кто. Не пристало быть такой довольной, что встретила бывшего подмастерья мужа.
— Ханс говорил, ты женился.
Он нехотя кивает.
Йоханес!
На нее тогда не смотрел. Прятал глаза. Краснел при ее появлении так, что смущение алым цветом проступало не только на щеках и шее, но и на голове между прядками светлых волос!
Мальчик ей нравился. Но совсем ребенок. Шестнадцать лет. Едва начал свое шестилетнее ученичество, перед тем как поступать в Гильдию Святого Луки. Всё амуров каких-то рисовал смешных, да и только. Заходя в мастерскую, чтобы принести что-то нужное мужу, Агата каждый раз говорила мальчику, что не нужны ему чужие амуры.
— Йон! Пиши изнутри. Не то, что до тебя рисовали! Свое пиши.
— Вы позировать мне будете? — только и бормотал Йоханес.
Муж смотрел так недовольно, что она быстро выскакивала из мастерской, напоследок сделав глубокий вдох аромата чего-то запретного, но манящего. Пьянящего аромата красок. И чувств.
Муж смотрел. Она сбегала по лестнице вниз. Ребенок сильно ворочался в животе.
Прошел еще год. Юноша Йоханес, чуть не заикаясь, сказал, что любит ее и будет любить всегда. Что скоро сам станет художником и женится на ней.
Грешно представила юношу в своей постели вместо мужа.
У нее уже был ребенок, годовалая Анетта, и она была беременна вторым.
Почти уперевшись в юношу своим большим животом, губами коснулась его губ. Обветренных, дрожащих, сладких. И целовала долго-долго. Так долго, что стало жарко. Внизу живота всё пылало и сочилось. А ребенок внутри так резко толкнулся ногой, что это почувствовала не только она, но и Йон. Ребенок совершил полный оборот внутри ее и резко опустился вниз. Словно протестуя против участи остаться такой же безотцовщиной, какой росла она сама.
Отстранилась.
Рожала два дня.
Первая дочка за полдня родилась — утром за живот схватилась, к ужину с прижатой к груди Анеттой стол накрывала. Теперь два дня истовых мук. К исходу второго дня родила мальчика. Уже мертвого.
Наказал ли ее господь или всё случайность? Мертворожденные дети бывают во многих семьях. Но, увидев Йона после тех родов, не поздоровалась. Слишком всё связалось в голове.
Вскоре муж сказал, что теперь у него на одного ученика меньше. Йон сначала ушел в мастерскую к Карелу, тому самому господину Фабрициусу, который теперь пишет ее дочку, а после и вовсе уехал в Антверпен к Халсу.
Еще через два года как-то за ужином Ханс рассказал, что его бывший ученик окончил обучение, вернулся в Делфт, в дом своего отца, владельца гостиницы, был принят в Гильдию святого Луки. А еще женился. Тоже на дочке хозяев гостиницы.
Деньги к деньгам.
Гостиницы к гостиницам.
Краски к краскам.
Но пока стоит здесь с юношей, кармин грязным пятном расплывается в кармане ее юбки.
— Йоханес!
Повзрослел. Возмужал. Пушок над губой превратился в положенные каждому уважающему себя художнику усы.
Не удержалась, провела по усам и подбородку рукой. Хорошо они оба ракитой укрыты от другого берега реки Схи, а на этом берегу никого не видно. Не то что в городе — сразу увидят и что скажут! Верх неприличия, чужой жене трогать чужого мужа руками!
Йоханес!
Совсем другой. И совсем такой же. Такой же, с каким опьяняюще целовалась за день до родов мертвого мальчика.
Стоят. Не знают, что сказать. Но и не могут в разные стороны уйти.
— В мастерские идешь?
— Да. Поступил в Гильдию. Свободным художником. Место в мастерских дали. Рядом с Фабрициусом и де Хохом. Должен быть уже там, да вот…
Разводит руками. Тоже не может двинуться с места, как и она.
Стоят.
Солнце светит прямо в глаза. Ветер с реки Схи насквозь продувает.
Стоят. Пошевелиться не могут.
Йоханес берет ее руку. Ждет напряженно, не отдернет ли?
Не отдергивает.
Стоят. Смотрят. Друг на друга. И ничего не говорят.
Смотрят.
Он — на ее выбившиеся из-под чепца кудри, золотые, почти медные на фоне этого аквамаринового неба. На едва заметный, подсвеченный солнцем пушок на шее. На линию, в плавном изгибе которой шея переходит в покатое плечо. И ниже, чуть ниже, туда, где за вырезом повседневной рубахи две налитые, будто выспевшие к последним теплым дням груди.
Она — на и незнакомое, и такое родное лицо уже совсем не мальчика, еще не совсем мужчины. На тонкий, как на старых портретах благородных мужей, нос. На почти бесцветные в этом отблеске брови. На тонкие усы. На обветренные, цвета спрятанной в карман юбки карминовой краски губы.
Ей бы домой спешить, краску из кармана в чистую плошку пересыпать, иначе, выдавая ее проступок, краска растает в кармане, окрасив и юбку, и ее бедра.
Домой бы спешить, она ведь так хотела успеть до прихода мужа хоть несколько минут провести в мастерской в мансарде.
Спешить бы, но ни попрощаться, ни уйти не может.
— Бывает развод…
Йоханес подносит ее руку к своему лицу, чуть касается ладони обветренными на остром осеннем ветру губами, проводит ее раскрытой ладонью по своей щеке.
— Мать жены Мария Тинс развод получила, четыре года назад. Всё возможно…
— Йон!
Волна острого желания захлестывает и накрывает с головой.