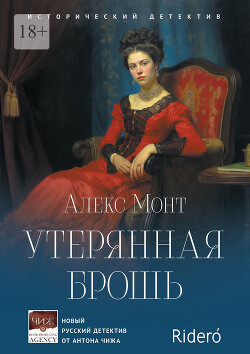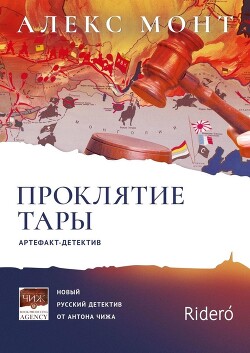Из хроники времен 1812 года. Любовь и тайны ротмистра Овчарова - Монт Алекс
— Вота энтот конверт должно с великим поспешанием доставить самому Кутузову. — Парень вынул из-под рубахи обёрнутое в тряпицу письмо и отдал Фёдору. — Дед Игнат так и наказывал: доставить с великим поспешанием до́лжно.
— Кто ж яму́ энто письмецо принёс? — хитро прищурив глаз, хмыкнул Меченый.
— Не ведаю, дядька Фёдор! Меня дед Игнат прислуживать явонным хранцузам позвал. Приходи, грит, сегодня к нам за столом послужить у постояльцев моих, а то барыня наша прислуживать им отказыватца. Я и пришёл. А опосля собака ихняя больно залаяла, видать, приехал к ним кто-то. Дед Игнат меня кликнул, письмо энто отдал, на лошадь посадил и грит: «Скачи шибче к Фёдору, а он уж знает, как с письмом энтим сподручнее обойтись!»
— Ладно, Андрейка, утро вечера мудренее, щас всё едино дождь да мрак, а вот с рассветом я письмо энто куда надо отвязу. Ложись почивать в горнице, я коня твово в стойла поставлю, а опосля мараковать буду, — рокотнул Меченый и ушёл во двор.
Едва рассвело, Фёдор, Спиридон и ещё четверо мужиков с пистолетами за поясами выехали из деревни и поскакали в сторону Старой Калужской дороги. Скрытно двигаясь вдоль неё, они услыхали ружейную пальбу и частые залпы заговоривших батарейных орудий.
Соединившийся с частями Понятовского авангард Мюрата вступил в соприкосновение с русскими войсками, выдвинутыми впереди Красного. Рассчитав, что занимаемая позиция для принятия сражения неудобна, Кутузов отдал приказ выйти из Красного и отступать на Тарутино, позиция при котором его устраивала более. В Красном главнокомандующий оставил арьергард Милорадовича, призванного прикрывать отход Главной армии по Старой Калужской дороге. Со всеми предосторожностями отряд Меченого подбирался к Красному, пока не наткнулся на эскадрон русского арьергарда, командир которого и принял письмо от Фёдора, взявшего с него твёрдое обещание доставить депешу фельдмаршалу лично в руки. Через час письмо находилось в руках Милорадовича, который и приказал упомянутому кавалеристу нагнать находившегося на марше Кутузова и передать послание партизан.
— Ай да молодец, голубчик, ай да молодец, ротмистр! — прочтя записку Овчарова, не переставал повторять обрадованный Кутузов, растроганно глядя слезившимся глазом на мало что понимавшего кавалерийского поручика, привёзшего письмо. — Скачи, сударик, к Михайле Андреичу и передай, что он доставил мне неизъяснимое удовольствие, — утирая слезу, наконец овладел собою светлейший, отсылая поручика к Милорадовичу.
«Стало быть, шутка удалась и Бонапартий заглотил наживку!» — улыбался фельдмаршал, раскачиваясь в неторопливо ехавшей с поднятым верхом коляске. «Надобно к награде его представить, сиречь к Владимиру. Георгий, кажись, у него уж есть», — размышлял светлейший, вчитываясь снова и снова в послание Павла.
— Пётр Петрович! — окликнул он ехавшего впереди Коновницына. — Распорядись, голубчик, чтоб арьергард наш не шибко в стычках с неприятелем усердствовал, а лишь когда оных избежать нельзя будет. Вскорости, — понизил он голос так, что Коновницын склонился к нему, — к нам гости высокие от злодея пожалуют, — словно вдыхая тонкий аромат любимого кушанья, чмокал чувственными губами главнокомандующий.
Пока Фёдор после нелёгких перипетий доставления Павлова письма Кутузову возвращался к себе в деревню, обдумывая очередную дерзкую вылазку, Овчаров с гусарами вышли на Смоленский тракт и во весь опор скакали к Можайску. Их лошади основательно отдохнули и сытно подкормились у Игнатия, поэтому шли резво и весело. К исходу дня, заметив солому на одной из почерневших изб, отстоявшей далеко от дороги, отряд повернул к ней. Деревня была разграблена и частью сожжена, однако уцелевшая солома пошла на корм лошадям, а сама изба стала ночным пристанищем путникам. Следующая ночь оказалась не столь приятна, ибо ночевать пришлось в чистом поле близ Бородина. Промозглый сырой туман клубился по равнине, земля источала влагу, и тёплый, подбитый мехом плащ, в который закутался Брюно, не спасал от холода.
— Давайте сызнова запалим огонь, инако от холода околеем! Да и надобно валежника принесть, — по собственному опыту, зная, чем может обернуться ночлег возле погасшего костра, предупредил Овчаров сержанта.
— Эй, не спать! — приказал гусарам Брюно. — Пройдитесь вокруг и соберите хворосту, да поживей!
Не прошло и получаса, как огонь вздымался до небес, обдавая жарким теплом сгрудившихся вокруг костра гвардейцев. Игнатиев паёк пришёлся весьма кстати, солдаты с превеликим удовольствием поглощали его. Тлетворное зловоние, исходившее от Бородинского поля, и карканье слетевшегося полакомиться падалью воронья, казалось, мало беспокоили их и не портили аппетита. Впрочем, к запаху мертвечины гвардейцев приучила дорога, смердевшая неубранными и оттащенными лишь к обочинам трупами.
— Поле сражения желательно обойти стороной, сержант. При дневном свете видеть ад происшедшего побоища я бы не хотел.
— Согласен, месьё Офшарофф! Моим гвардейцам это зрелище тоже ни к чему. Но как отыскать другой путь в аббатство?
— Пока не знаю, Брюно, — вздохнул Павел, отодвигаясь от огня, жар которого стал пробирать его.
Он поднялся на ноги, сделал пару шагов и чудом не наступил на девочку, сидевшую на голой земле с поджатыми к груди худенькими коленками и смотревшую на шумевшее пламя и поедавших говядину гусар заворожёнными жадными глазами.
— Ты чья? — оторопело спросил он.
— Акулька, Федосьина дочь. Тока вот нету яво. И мамки с братками нету.
— Где ж они?
— На небе, дядинько! Тако мене батюшка церкви нашей сказывал, — бойко отвечала девочка, шмыгая носом и размазывая кулачком тёкшие от едкого дыма слёзы по чумазому лицу.
— А господа твои кто, знаешь?
— Господ наших Давыдовыми нарекат. Батюшка сказывал, Василья Денисыч помре, така таперича дочь яво господа наши.
— Ты, верно, голодна, Акулина?
— Да б поснедала, коль што у вас исть.
— Сержант, тут девочка, сирота, накормить бы её, — повернулся к Брюно Овчаров.
Пока он разговаривал с Акулиной, французы перестали жевать и с нежным участием смотрели на ребёнка. Едва они услыхали, что прибившаяся к их бивуаку девочка обездоленная и голодная сирота, все как один полезли в свои ранцы и стали наперебой предлагать извлечённую из них снедь.
— Стало быть, Акулина, из здешних мест будешь? — поинтересовался Овчаров, когда, утолив голод и усевшись на расстеленный Брюно плащ, девочка вновь обратила заворожённый взор на огонь.
— Из Семёновского. Тока деревни нашей уж нету, солдаты избы усе порыбали и незнамо на какие-то флэши да лунэты крюками расташшыли. Батюшка сказывал, штоб супостата окаянного становить.
— Где же ты живёшь теперь, Акулина?
— Повсюд таперича и живу, дядинько! Можа, в монастыр Колоцкий подамси, тока раненого супостата тама щас больно мноха, батюшка наш сказывал.
— Тебе ведома дорога туда?
— Ведома, дядинько!
— А сможешь той дорогой в монастырь нас провесть?
— Отчаво не смогу, дядинько?! Коли поснедать ешшо дадите, точно к монастыру и провяду.
Объяснив Брюно суть беседы с Акулиной, Овчаров обрадовал сержанта. Со всей заботливостью укрыв девочку плащом — её замызганный сарафан с домотканой рубахой не могли служить защитой от ночного холода, — он повалился рядом и вскоре засопел, тогда как Овчаров, вглядываясь в мглистую пустыню неба, считал часы до утренней зари.
Акулина превосходно помнила дорогу и, важно восседая с Павлом на лошади, вывела их к монастырю едва заметной для глаза, пробивавшейся сквозь лес и бурьян тропой. Высокая четырёхъярусная колокольня господствовала над местностью и была видна за десятки вёрст от монастыря. Глянец его кровельной черепицы ярко блестел на стоявшем высоко солнце, а круглые белые башни придавали обители облик средневековой крепости.
Гвардейцы припустили коней и, преодолев траншеи, вырытые отступавшей русской армией, въехали в монастырский двор через врата колокольни. Появление гостей из Москвы внесло заметное оживление в однообразное течение жизни раненых. Их бледно-жёлтые, опухшие от голода и обросшие бородой лица с всклокоченными и спутанными волосами часто замелькали в решетчатых окнах монастырских построек, ходячие высыпали наружу, моля у прибывших соотечественников хлеба и табаку. Пока Брюно с Павлом беседовали с лекарями, гвардейцы отдали солонину, что была у них в ранцах, поделились сухарями и отсыпали столь вожделенного табаку.