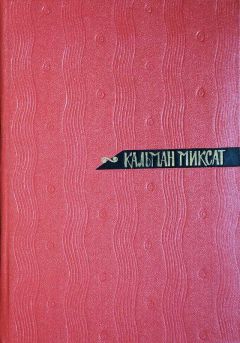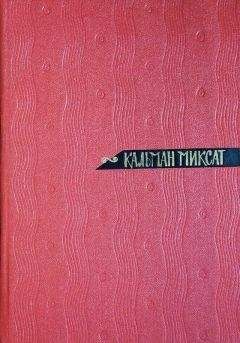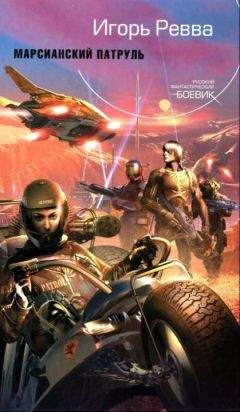Кальман Миксат - Осада Бестрице
— Прошу вас, сударь!
— Видите ли, — начал барон, несколько смущаясь. — Дело, конечно, щекотливое, не из приятных, но чем скорее мы с ним покончим, тем лучше… Я имею в виду деньжонки… взаймы! — Барон пренебрежительно скривил губы. — Сын мой легкомысленный малый, так уж он был воспитан, тут есть доля моей вины, но и он виноват тоже. Впрочем, сейчас уж дела не поправишь. Однако я должен сказать сыну, что вы согласны ссудить нам известную сумму. Ничего не поделаешь… Ах, этот проклятый век! Даже самый благородный поступок связан с низменной прозой. Черт бы побрал этот девятнадцатый век! Так какую же сумму я могу ему назвать?
Тарноци после некоторого колебания произнес:
— Право, не знаю. Сотни две, я думаю.
Пал Бехенци презрительно расхохотался:
— Только-то! Двести форинтов. Да моему бездельнику это на один день! Ах, сударь, вы себе и представить не можете, как дурно воспитан мой сын! А потом, примите во внимание, сударь, что Эстеллу сам Иштван Понграц купил в Жолне за шестьсот форинтов. И у кого? У простого бродячего комедианта! Нет, вы слишком скупы по отношению к барону Бехенци. Вы настоящий Гарпагон. — Тут барон шутливо похлопал адвоката по плечу. — За предмет, который стоит добрых шестьсот форинтов, вы даете всего двести.
— Да, но тогда Эстелла была, по-видимому, красивее, — весело возразил Тарноци.
— Ну, так что же? Вы-то берете ее не за красоту? Правда, тогда она была красивее, зато теперь стала умнее, дороднее.
Такой аргумент разозлил Тарноци, и он не удержался от колкого замечания:
— Уж не собираетесь ли вы продавать ее на фунты?
— Э-э, потише, молодой человек! Разве мы говорим о продаже? Речь идет лишь о взаимной любезности. Только об этом, клянусь честью! Несколько лет назад, когда я охотился с принцем Уэльским, он сказал мне: "Дорогой Бехенци, лисица, которую мы еще не схватили за хвост, — ничья!" Так что мы можем спокойно разойтись, будто и не встречались и ни о чем не толковали.
— Ладно, ладно! — испуганно воскликнул адвокат. — Я с великим удовольствием одолжу вам и шестьсот форинтов.
— Отлично! — воскликнул барон.
Они снова ударили по рукам и после новых рукопожатий; расстались. На этот раз барон Бехенци уже больше не останавливался, пока не очутился на поросшем лебедой и бурьяном замковом дворе, где Эстелла раскладывала на циновке белый грибы для просушки.
Нужно сказать, что безжалостное время основательно потрудилось над ее когда-то смазливой рожицей: кожа на лице одрябла, собралась в морщины, тщательно замазанные румянами, да и сама она как-то ссохлась, сморщилась, напоминая вылущенный кукурузный початок. Только ее когда-то красивый подбородок вел себя молодцом и образовал чуть пониже свой филиал, может быть, для того, чтобы за один подбородок Эстеллу пощипывал барон Пал, а за другой — барон Карой.
— Ну, а где же птицы? — спросила Эстелла, увидав входящего во двор барона.
— Птички-голубочки остались в лесочке, — отвечал тот, весело улыбаясь.
На лице Эстеллы отразилось неудовольствие, отчего оно стало еще уродливее, ибо нос ее, как у индюка, навис над верхней губой. Эстелла всплеснула руками (теперь уже огрубевшими и корявыми) и, хлопнув себя по бедрам, прикрытым рваной юбкой, спросила:
— Вы, что же, думаете, я потащу продавать криванкинскому еврею-мяснику вот эти последние тряпки, чтобы купить вам мясо на обед? Разве вы забыли, что я должна отнести ему в счет мяса грибов и этих самых ваших иволг?
— Ладно, не ори на меня. Сегодня тебе все равно не придется идти в Криванку. А где молодой барин?
Эстелла почтительно, как воспитанница классной даме, отвесила поклон старому Бехенци и с ироническим пафосом отвечала:
— Его сиятельство господин барон пребывают в столовой и заняты латанием мешка, в котором я должна была нести грибы и пташек в деревню. Его сиятельство будут без памяти рады видеть своего батюшку.
Барон Карой, действительно, сидел в столовой. Эстелла не без ехидства подчеркнула слово «столовая», так как комната эта скорее служила прибежищем для летучих мышей, — впрочем, и те использовали ее не как столовую, а как спальню.
Господин Карой Бехенци заметно похудел и ослаб с тех пор, как мы в последний раз встречались с ним. Эстелла не солгала: вооружившись ниткой и иголкой толщиной с добрый гвоздь, молодой барон латал дырявый, как решето, мешок.
— Ну что, старик, принес пташек? — неприветливо встретил он отца.
— Нет, не принес, — отвечал тот с героическим спокойствием. В его равнодушном, полном достоинства тоне было нечто загадочное, что Карой тотчас же заметил.
— Ни одной?
— Ни одной, — весело посмотрел на сына старик. — Какого черта стану я возиться с этими птицами? Я даже запаха их не выношу.
— Хм. Так что же ты принес? — с любопытством взглянул на него сын, откладывая в сторону иглу.
— Ха-ха-ха! Что? Такого зверя, что даже не знаю, как его назвать. Слона? Нет, пожалуй, не слона, а носорога!
— Папочка, ты где-то наклюкался.
Старый барон устало опустился на дряхлое, продавленное кресло, из бугристой подушки которого то там, то сям с любопытством выглядывал конский волос.
— А ну, встань-ка, сынок, да прикрой сперва дверь, чтобы эта девица не слыхала, о чем мы будем толковать… вот так… Теперь набей мне трубку и потом садись и навостри уши…
— Трубку? Чем же я тебе ее набью? — нерешительно протянул Карой.
— Полно, у тебя есть табак.
— Ни крошки, да и откуда ему быть у меня?
— Скрываешь, негодник.
— Говорю тебе, нету!
— Ой ли? — И старик погрозил сыну пальцем. Тут Карой не выдержал и рассмеялся:
— Последнее у меня вымотаешь. Хорош отец, нечего сказать. Пользуешься мягкостью сыновнего сердца.
Он приподнял половицу и вытащил из-под нее сделанный из свиного пузыря кисет с подвешенными на шнурках пампушками величиной в доброе яблоко.
— Э-ге, так вот куда ты его прячешь!
— А чем плохо? Место сырое, табачок не пересохнет!
Карой, как и подобает доброму, любящему сыну, набил глиняную трубку старого барона, чубук которой был из вишневого дерева, а мундштуком служило гусиное перо, вставил трубку ему в рот и в довершение всего, оторвав от валявшегося на столе счета клочок бумаги, дал прикурить.
— Ну, а теперь, папенька, я слушаю тебя.
Старик помедлил еще, дожидаясь, пока трубка раскурится, затем с важным видом приступил к повествованию, придав ему форму сказки:
— Жил-был на свете человек, у которого один сумасшедший похитил невесту и держал ее в своем замке. Держал и ни за что не хотел отдавать до тех пор, пока не вернут ему сбежавшую от него любимую обезьяну. И вот пошел жених странствовать по белу свету в поисках этой обезьяны. Идет он, идет и встречает другого сумасшедшего, который как раз ловил иволг в ельнике. Спросил сумасброд-птицелов у путника, куда он путь держит, а тот и расскажи ему, что ищет он обезьяну, которая, по слухам, находится у такого-то человека. Безумец ему и говорит: "Ты, путник, на правильном пути, потому что этот человек — мой сын!"
Карой Бехенци живо вскочил с места.
— Ты это об Эстелле?
— О ней самой.
— Черт побери! И он ищет ее для Понграца? А ведь я слышал что-то об этой жолненской девушке. Ну и комедия там была разыграна!
— Правильно. А теперь, чтобы получить назад девушку, понадобилась наша Эстелла.
— Уж ты не пообещал ли выдать ее?
— А что ж тут такого? На что она нам? Тебе она давно уже надоела, ты и сам собирался ее прогнать. А тут такое счастье привалило! Этот amice согласен дать нам взаймы шестьсот форинтов. Влюбленный осел! Да это такое дельце, Карой! И к тому же безусловно честное, потому что в результате все будут счастливы и довольны: адвокат получит свою невесту, мы — деньги, а Эстелла угодит в такое место, где как сыр в масле будет кататься. Тем более, что и сама она все время мечтает вернуться к Понграцу.
— Где же этот адвокат? — глухим голосом спросил Карой.
— В криванковском трактире ждет. Как привезем ему Эстеллу, он тотчас выложит денежки на стол… чистоганом…
Старый барон от удивления не докончил фразы: Карой вдруг подпрыгнул, как ужаленный, сорвал со стены старинный, единственный уцелевший в замке карабин, который висел на позеленевшем от плесени щите, и крикнул, задыхаясь от гнева:
— Застрелю негодяя! На вертел живым посажу! Сырым с потрохами сожру!
— Что ты, Карой! Единственного нашего благодетеля! — хватая сына за руки, кротко и нежно успокаивал его барон. — Даже людоеды и те так не поступают. Карой, не делай глупостей.
Но рассвирепевший Карой вырвался из рук отца, голос у него дрожал, он скрежетал зубами:
— Прочь! Оставь меня! Удивляюсь, что ты не понимаешь моих чувств. Этот молокосос оскорбил меня, вообразив, будто барон Бехенци способен торговать надоевшей ему любовницей… Но для тебя, я вижу, честь сына — ничто! Нет, я не потерплю такого оскорбления! Никогда! Ни за что! Собаке собачья смерть!