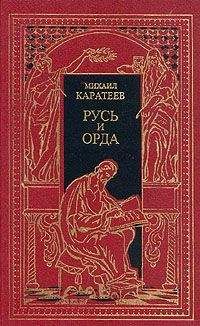Николай Дубов - Колесо Фортуны
— Что ж, — сказал граф, — по-видимому, это справедливое требование. Командир должен быть при команде.
— Так-то оно, конечно, так… Только есть деликатный пункт — кто командир? Вот, к примеру, их сиятельство, Кирила Григорьич, окромя того, что они — фельдмаршал, состоят еще в чине подполковника гвардейского Измайловского полка. Раньше они завсегда рапорты дежурных офицеров дома принимали, а в полк когда-никогда приедут, спросят: "Как живете, братцы? Сыты, обуты? Жалобы есть? Нету? Ну и слава богу. Вот вам трошки грошей, — они любят по-малороссийски словечко ввернуть, — выпейте за здоровье матушки-государыни". Солдаты, понятное дело, кричат "ура", а их сиятельство обратно в карету и домой. И все довольны. А теперь вольготная жизнь кончилась. Во-первых, каждый день вставать ни свет ни заря, во-вторых, надобно знать воинские артикулы… А ведь их сиятельство отродясь никакого оружия, кроме хворостины для родительских волов, в руках не держали-с. И если воевали, так только в отроческие годы на кулачках… Как прикажете тут быть? Отказаться нельзя. Вылезти не умеючи — сраму не оберешься. Чуть что — их величество, не взирая на чины, прилюдно обзывают всякими словами…
— И что же граф?
— Наняли поручика, из своего же полка. Теперь дватри раза в день под его команду все артикулы выделывают. Только все время приговаривают: "А сто чертей тебе в печенку…"
— Кому? — улыбнулся граф.
— Вот этого не сказывают, — улыбнулся и Теплов.
— Я не завидую вашим врагам, месье Теплов, — сказал Сен-Жермен. — Если своего покровителя вы представляете в столь осмешенном виде, то каково достается вашим недругам?
— Ах! Ах! — захлопотал лицом и руками Теплов. — Сколь несправедливо сие, господин граф! Да разве я…
Как бы я осмелился?! Что я мог такого сказать, чтобы из того проистек вред для моего благодетеля?
— Из вашего рассказа следует, что граф Разумовский в юности был простым пастухом.
— Так ведь — святая правда-с! В отроческие годы их сиятельство действительно пасли родительских волов.
— Возможно, но распространение таких сведений о его прошлом вряд ли теперь доставит удовольствие графу.
— Да они сами не токмо не скрывают, а даже как бы хвастают. Вот когда соизволите посетить их сиятельство, поглядите: на видном месте в особом стеклянном шкапчике висит простая деревенская свитка — это вроде суконного кафтана, только по-малороссийски белая. И сопилка там лежит, пастушья дудочка. И их сиятельство не упустят случая сказать, что вот, мол, хранит это в назидание потомкам, дабы помнили, что в князи они — из грязи… Разве я так, от себя, посмел бы? Я — что? Эхо!
Не более того… А вы такую напраслину на меня! Ах, ах, господин граф!.. Сколько я претерпел за правдоречие свое! Где бы смолчать, а я в простоте душевной все прямиком…
— Правда вещь обоюдоострая, даже когда она направлена против других.
— Премудро изволили заметить, господин граф!..
Однако если вы полагаете, что правду я говорю только про других, то совершенно напрасно-с… Я и про себя все могу сказать. Только кому это интересно?
— Мне, например.
— А вам на что-с? Человек вы здесь сторонний, путешествующий в свое удовольствие для изучения всякого рода мест…
— Любое место интересно прежде всего людьми, их нравами и обычаями.
— Извольте-с, я готов и о себе, только ничего примечательного в моей персоне нету. Матушка моя была женой истопника архиерейских покоев в Пскове, а вот родитель пожелал остаться неведомым. Ради того владыка указал: поелику она все время при печах и творит тепло, надлежит и сына наректи Тепловым… Они шутники были, их преосвященство, — усмехаясь, сказал Теплов.
— Вряд ли вам приятно об этом рассказывать, — сказал Сен-Жермен. — Зачем же вы это делаете?
— Единственно — из правдолюбия! Не корысти же ради… Разве может быть в том корысть?
— Может. Окружающие могут подумать, что если вы, не боясь унижения, говорите всю правду о себе, стало быть, и о других говорите правду. За такую репутацию можно заплатить и унижением.
— Ах, ах, господин граф! — снова засуетился Теплов. — Что я могу ответить? Восхищаюсь проницательностью вашей и немею. Мечтаю только о том, чтобы вы подольше гостили в палестинах наших и убедились, сколь несправедливо сие подозрение.
— Мы отвлеклись, — сказал Сен-Жермен. — Как же сложилась судьба ваша?
— Его преосвященство обо мне не забыли и, когда пришло время, отдали в школу при Александро-Невской лавре. После школы послали меня за границу для совершенствования в языках и науках, а по возвращении прикомандировали к Академии де сьянс. Вот тут едва не кончился не только карьер мой, а и самый живот… Человек худородный без покровителя быть не может — ни положения у него не будет, ни заступничества, ни продвижения по службе. Оценив мое трудолюбие и всяческое старание, взял меня под свою руку архитектор Еропкин, а он, в свой черед, принадлежал к приближенным Артемия Волынского — был такой кабинет-министр в царствование Анны Иоанновны. Человек этот был дарований обширных и на досуге сочинял от себя прожекты о поправлении государственных дел, с разбором об управлении и сословиях, об экономии и прочем. Эти свои прожекты он обсуждал с конфидентами, а потом преподнес на высочайшее рассмотрение самой императрице…
— После этого, — сказал Сен-Жермен, — ей ничего не оставалось, как отрубить ему голову.
— Помилуйте! Значит, вы знали эту историю? Волынскому и конфидентам его действительно отрубили головы.
— Нет, не знал. Просто это закономерное окончание всех историй такого рода.
— Но почему же, господин граф? Ведь тут преследовался не личный интерес, а государственная польза, благо отечества!
— Благо отечества выглядит совершенно по-разному, когда на него смотрят снизу и когда смотрят сверху…
Правитель владеет державой и управляет ею при помощи слуг, которым он хорошо платит за преданность и повиновение. А они потому и преданны, что он платит им хорошо, и изо всех сил восхваляют мудрость и непогрешимость правителя. И вдруг кто-то осмеливается критиковать непогрешимое и предлагать реформы. Из этого следует, что у правителя не хватило ума увидеть недостатки и исправить их, а его слуги — подлые лгуны. Если так, глупого правителя надо заменить умным реформатором, разогнать подлых слуг и набрать новых, честных. Но, дорогой месье Теплое, слыхали ли вы о короле или султане, который бы провозгласил: "Любезные мои подданные! Я — дурак, а потому не умею и не имею права управлять вами. Гоните меня в шею, дорогие подданные!" А главное — слыхали ли вы о таких слугах, которые позволили бы ему это сделать и тем самым отказались бы от власти, почета и богатства?.. Конец подобных реформаторов предрешен.
У правителей нет другого способа доказать, что они умнее, им остается только уничтожать тех, кто осмеливается давать непрошеные советы.
— Беседовать с вами, господин граф, истинное наслаждение. Только получается, что не я путеводительствую вами по Санкт-Петербургу, как вы желали, а вы мною по бурному морю житейскому, между его Сциллами и Харибдами… Я-то счастлив тем, но вам мало проку от меня.
— Нет, почему же? Мне очень интересно все, что вы рассказываете. А вас по делу Волынского не привлекали?
— Как же! Как же! Был вторгнут в узилище, но… — Теплов развел руки и поднял очи горе. — Спасен… своим ничтожеством. Кто я был? Слуга слуги… В конфидентах не состоял, ни в чем участия не принимал. Поэтому — кому голову долой, кого кнутами и в Сибирь, а мимо меня пронесло — признали неповинным… Но уж страху набрался! На всю жизнь.
— Однако вы не производите впечатления человека робкого, запуганного.
— Что вы, сударь мой! Одна видимость… Только и отошел, когда Алексей Григорьич Разумовский избрал меня в спутники для братца своего Кирилы. Алексей Григорьич, надо вам сказать, человек удивительный! Другой бы на его месте, оказавшись в случае у императрицы, возмечтал и вознесся, а он каким был, таким и остался. Никакого там французского языка, этикету не признавал, только и перемен, что вместо свитки надел кафтан. В государственные дела не вмешивался, интриг не заводил… Разве что во хмелю прибьет кого.
— Как?
— Собственноручно-с. Тверезый мухи не обидит.
А будучи в подпитии, буен и на руку тяжел. Теперь-то уж не то, постарел, а прежде, бывало, едут к нему на прием вельможи и трясутся — на кого сегодня жребий падет, кого он изволтузит…
— За что?
— Не любит он придворных. За двуличие, криводушие. Так-то всегда молчит, а в подпитии начнет когонибудь при всех обличать, а потом и того-с…
— И все-таки ездили к нему?
— Попробуй не поехать, если на том приеме имеет быть сама императрица… Однако при всей простоте своей Алексей Григорьич очень хорошо понимал пользу просвещения, а будучи родственнолюбив, обо всех близких в том направлении заботился. В первую же очередь востребовал в Санкт-Петербург своего малолетнего братца, отдал его в науку, потом за границу послал. А меня к ним приставил как бы гувернером. Вот тогда-то и имел я счастье познакомиться с вами… Тем временем семейство Разумовских получило графское достоинство, по возвращении Кирила Григорьич, будучи от роду восемнадцати годов, стали президентом академии, потом гетманом Малороссийским… А я так при них все время и состою, во всех трудах, в меру сил моих, споспешествую…