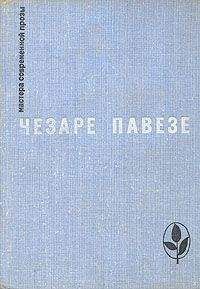Петр Полежаев - Фавор и опала
Добытые показания комиссия представила в Петербург, откуда последовало распоряжение перевезти Николая и Александра Долгоруковых в Вологду, а князя Ивана в Шлиссельбург, куда тоже перевезли и прочих князей Долгоруковых: Василия Лукича, Ивана Григорьевича и Сергея Григорьевича. Участь берёзовских обывателей, обвиняемых в послаблениях и в участии к Долгоруковым, решилась скоро. Майору Петрову в июне 1739 года отсекли голову, священников били кнутами и разослали по сибирским городам; из них более пострадал священник Рождественской церкви Фёдор Кузнецов, духовник князя Ивана; его били кнутом нещаднее и, кроме того, вырезали ноздри; офицеров гарнизонных разжаловали в рядовые и разослали по разным сибирским полкам, а боярского сына Кашперова и атамана Лихачёва били батогами и сослали на службу в Оренбург. Оставалась нерешённой дольше других участь самого князя Ивана… О нём хлопотали и заботились высокопоставленные лица того времени: два Андрея Ивановича [38] и новый кабинет-министр Артём Петрович Волынский.
XII
Начало ноября 1739 года. Вода и берег одинакового сплошного сероватого цвета; туманно так, что не отличишь, утро ли, полдень ли или вечер. На всём давящая пустынность; ни звука, ни шороха, кроме однообразного шуршания прибоя и всплеска волны, взбегающей на однотонные, сероватые прибрежные камни и падающей обратно пенистой полосой. Жизнь умерла, хотя и нет ещё снежного покрова. Холодно и сыро; влажность проникает всюду: в воздух, в слои буроватой листвы, покрывшей землю, в слоистый берег, в серые стены Шлиссельбургской крепости, такой же томящей, как вся окрестность.
С небольшим лет пятнадцать, как Шлиссельбург перешёл от шведов к нам и из пограничной сторожевой крепости сделался стражем, только не от внешних врагов, а тюремным внутреннего распорядка [39]. Да и действительно, это назначение более подходило к ней. Толстые стены, недостаточно устойчивые для борьбы, оказывались совершенно достаточными для острожной службы, тюрьмою глядели узкие оконца с железными переплётами, в которых виднелся лоскуток пасмурного неба. Сырые конуры в стенах скорее были способны не поднять энергию, а подточить её, стереть всякий мятежный, своевольный порыв.
С Анны Ивановны началась новая верная служба Шлиссельбурга. Сюда стали привозить неспокойных мечтателей новых порядков, сюда же для окончательного суда была перевезена и семья Долгоруковых — за исключением Николая и Александра, бывших в Вологде, — и размещена отдельно по разным тайникам и казематам. Внизу, в сырой и тёмной каморке, в три аршина длиной и в два шириной, с полом ниже водного уровня, в стены которой бились озёрные воды, содержался Иван Алексеевич, прикованный к стене и скованный ручными и ножными кандалами. При каждом его движении бряцали тяжёлые кольца, но тихо, едва слышно, как тихи и едва заметны были движения арестанта. Иван Алексеевич был ещё не труп и не скелет, но какое-то странное подобие человека. Тёмно-синие полосы под ввалившимися, неестественно блестящими глазами вместе с глубокими впадинами щёк, при обострившихся чертах, всклокоченные пряди волос придавали лицу выражение не страдания — оно уже притупилось, — а того крайнего нервного возбуждения, после которого уже нет возврата к жизни.
Иван Алексеевич сидел на связке грязной, вонючей соломы, опираясь спиной о стену, к которой привинчивался конец железной цепи. Опустив голову и беспомощно сложив иссохшие руки на коленях, он оставался по целым часам совершенно неподвижным. Да и мудрено было делать малейшие движения при вывихнутых руках и ногах. Тобольский заплечный мастер не потрудился даже оказать последней услуги — вправить вывороченные дыбой из связок члены.
Жизни не было в этих отторгнутых членах; вся деятельность сосредоточивалась только в двух жизненных узлах: сердце и голове. Но зато и работала же эта жизнь головы, этого всевидящего духа, отвлечённого от всего внешнего. В нём не было повесы и кутилы, сердцееда, счастливого любовника Трубецкой и стольких дам тогдашнего большого света, не было и того невольного поселенца сибирского, грязного и грубого, который топил в вине уязвлённое самолюбие и память о счастливой буйной юности. С убийством тела умер человек животный и просветлел человек внутренний.
В другой камере того же каземата второго этажа, более просторной и более светлой, содержался князь Василий Лукич Долгоруков. И Василий Лукич изменился в этот последний месяц, после того как ночью его, сонного старика, неожиданно схватили, заперли и подняли на дыбу. Его с проседью волосы совершенно посеребрились; всегда гладко выбритый подбородок покрылся щетиной; лицо осунулось и потеряло свежесть; тонко-деликатные манеры, учтивость и умение обращаться в высших сферах — потеряли обычную мягкость. Изменился Василий Лукич, но не потерял присутствия духа и крепко веровал в перемену фортуны.
«Наболтал что спьяну да с дурости племянничек Иван, — перебирал в уме своём старый дипломат, отыскивая причины новой невзгоды, — а больше ничего, никаких других новых резонов к гибели нашей фамилии существовать не может».
Сколько ни разбирал и ни отыскивал новых резонов Василий Лукич, но не находил. История о духовной известна была государыне тогда ещё и даже от него самого, история о кондициях самодержавства — старая, забытая история. Правда, не прошло ещё трёх лет, как пострадал князь Дмитрий Михайлович Голицын, но та акция, как выражался князь Василий, с иными кондициями. Государыня всегда недолюбливала сурового старика, а к нему, Василию Лукичу, особливо благоволила.
«И что за ослепление такое было на меня? — чуть не вслух проговаривал старый князь. — К чему была эта наша затейка? Одно суетное мечтание…»
А между тем эти суетные мечтания и теперь накипали в голове без спроса и без ведома, рисовали доброе будущее, награды за перенесённые случайные беды, место первенствующей персоны в государстве. Но не исполнились мечтания и не удалось Долгоруковым стать первыми персонами, В природе не повторяется одно и то же. Старый дипломат в снегах Сибири, где он воеводствовал, заморозил свою прозорливость; не понял он, что пошли новые порядки, с немецкой пробой, в которых русским людям нет места.
Остальные Долгоруковы, Сергей Григорьевич и Иван Григорьевич, содержались в другом каземате, примыкавшем под углом к первому. На них мало отразилось тюремное заключение; они веровали в счастливый исход. Опала и прежде не лежала на них особенно тяжело, а князю Сергею даже улыбнулась было и фортуна. По заступничеству тестя, старого петровского птенца, Петра Ивановича Шафирова, князь Сергей был вызван в Петербург, получил посольский пост в Лондоне, совершенно собрался к отъезду — только оставалось получить прощальную аудиенцию и аккредитивные грамоты, — как вдруг ни с того ни с сего вместо Лондона — Шлиссельбург. Как будто сама судьба гнала Долгоруковых, убирая со сцены их друзей и сподручников. Не далее как с полгода умер Пётр Павлович, а из остальных кто в шуты попал, кто в ссылку, а кто и умер…
Мёртвенно-тихо внутри острожного шлиссельбургского двора. Временами слышатся то шаги караула, то вдруг звук мушкета, выпавшего из рук вздремнувшего часового. Встрепенётся солдатик, подхватит ружьё, запахнёт ветром подбитую шинель, перекрестит размашистым крестом широкий зевок, прислонится к стенке и опять вздремнёт.
— Ого-го-го… выноси, голубчики, — послышалось где-то за крепостью, потом стук колёс по камням, забряцали бубенчики… ближе… ближе… и скоро на двор к комендантскому крыльцу подкатила тройка с телегой: это был гонец из Петербурга с важными бумагами к коменданту.
Разбудили коменданта, старого служаку, неспособного к строевой службе из-за ран, добряка, которого судьба, ради потехи, назначила на суровый пост тюремщика. Прочёл привезённые бумаги добряк и окаменел. Что это? Не сон ли? Не дьявольское ли наваждение? Снова прочёл он, толстая отвислая губа задрожала, чаще и с усилием заморгали веки, перекрестился и чуть слышно проговорил:
— О Господи… Господи… ещё… Иванушку!
Первая бумага была сентенция 31 октября 1739 года генерального собрания кабинет-министров, сенаторов, трёх старших чинов Синода и депутатов от гвардии и разных других ведомств. В сентенции заключалось: «Изображение о государевых воровских замыслах Долгоруковых, в каковых по следствию не только обличены, но и сами винились». Потом излагался приговор: князя Ивана колесовать и потом отсечь голову, князьям Василию Лукичу, Ивану Григорьевичу и Сергею Григорьевичу отсечь головы без колесования. Поступки князей Долгоруковых, фельдмаршала Василия Владимировича и брата его Михаила Владимировича, «хотя и достойных смертной казни, представить на высочайшую милость её императорского величества». В заключение излагалось утверждение 1 ноября приговора государыней и определялось, чтобы исполнение решения совершено было публично в Новгороде, чтобы князя Василия Владимировича заключить в Новгороде, а Михаила Владимировича в Шлиссельбург.