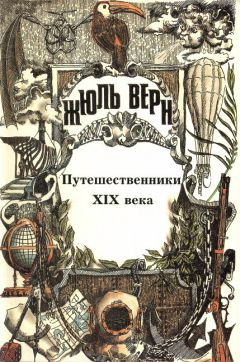Роуз Тремейн - Музыка и тишина
— Тем не менее, — сказал Доктор, — я должен провести осмотр, как мне приказано.
Я остановила взгляд на Инструментах. Изобразив еще больший ужас, чем раньше, я покачнулась и упала.
— Нет! — услышала я собственный крик. — Я не могу подвергать себя такому испытанию! Если я это сделаю, то, клянусь вам, у меня будет выкидыш…
В этот момент вошел Король. Увидев, что я лежу в обмороке, он подбежал ко мне, поднял меня и крикнул, чтобы принесли Соли. Понимая, что все зависит от этого мгновения, я, до тех пор пока не почувствовала под ноздрями запах Соли, делала вид, будто лежу в его руках без сознания. Потом я открыла глаза, прижалась к мужу и сказала:
— Ах, мой дорогой Господин, помогите мне. Не рискуйте жизнью ребенка, позволяя лекарю прикладывать к моему телу холодный металл!
Прижимая меня к груди, Король сказал:
— Значит, мне это не приснилось?
— Что не приснилось?
— Что ты пришла ко мне и сказала о ребенке…
— Ах, нет, ребенок настоящий, не призрак, не сон, но, прошу, умоляю вас, Сир, прикажите Доктору Сперлингу уйти!
Я повисла на шее Короля, словно была слабым Младенцем, а он моим злым Отцом-кровосмесителем. Я знаю, что такими действиями могу добиться от него всего, что способно изобрести мое сердце. Вскоре я услышала, как Доктор выходит из комнаты и закрывает за собой дверь.
Итак, продолжается лето с жарой и тучами несносных мух. Мой живот начинает раздуваться, а ноги болеть. Если бы это был ребенок Короля, а не моего любовника, то, заявляю, я бы выманила у Герра Беккера какое-нибудь смертельное снадобье, чтобы избавиться от него. Но ребенку Отто я не могу причинить вреда. Он был зачат в миг Исступления, и я полагаю, что он вылетит из меня на трепещущих крыльях цветения.
Герда
Эмилия Тилсен стоит в погребе и смотрит на кур.
Тесня друг друга, они подходят к ней и просовывают клювы между прутьями сетки. На пыльной земле она видит одинокое яйцо. Она принесла зерна и кувшин воды.
Эмилия открывает дверь клетки, входит внутрь и начинает разбрасывать корм, ей приятно видеть, как покрытые перьями тельца трутся об ее юбку. Это напоминает ей, как маленькой девочкой она ходила вместе с Карен разыскивать яйца, небрежно отложенные здесь и там на лугах и межах, и ту радость, которую она испытывала, когда находила их, и Карен ей говорила: «Молодец, моя красавица».
Эти куры серо-коричневые и пестрые, с белыми перьями на шее. Их головки судорожно кивают в поисках зерна. Эмилия уже закончила свое дело и собирается выйти из клетки, как вдруг видит, что одна из куриц так и не двинулась с места и сидит в пыли, глядя на нее затуманенными желтыми глазами. Слегка приподняв и прижав к себе юбки, чтобы их не запачкать, Эмилия садится на корточки и внимательно разглядывает курицу. Однажды, очень давно, в Ютландии Карен выходила больную курицу вареной крапивой. Некоторое время курица жила в доме, и, когда начала выздоравливать, у нее вошло в привычку во время еды взлетать на обеденный стол. Они звали ее Гердой. Йоханн предупредил ее, что на обеденном столе он желает видеть только ощипанных и зажаренных кур.
Именно в память о Герде Эмилия без колебаний поднимает пеструю курицу и выносит из погреба. Она забирает ее в свою комнату — не в покой, смежный со спальней Кирстен, где теперь она часто спит, а в скудно обставленную комнату с высоким потолком, которую ей отвели сразу по ее приезде в Росенборг. Она приносит из конюшни охапку чистой соломы и в углу устраивает для курицы гнездо. В сравнении с погребом в комнате светло, и птица то и дело поворачивает голову к окну, словно небо — это нечто, что прежде не входило в поле ее зрения. Растроганная замешательством курицы, Эмилия невольно начинает гладить ее по шее.
— Герда, — шепчет она, — Герда…
Затем она начинает грезить наяву. Она не спит и слышит звуки далеких голосов во дворе, беспокойное жужжание мухи, бьющейся о стены, окно и потолок комнаты, но голову ее вдруг заполняют видения воображаемого будущего.
Она стала женой Английского лютниста и живет с Питером Клэром в зеленой долине, которую раньше никогда не видела. Их дом полон света. Дети, смеясь, льнут к ее юбкам, она берет их за руки и ведет в прекрасную комнату с натертым деревянным полом, где Питер Клэр и его друзья исполняют музыку, такую нежную и мелодичную, что дети садятся на пол, чтобы послушать, она садится рядом с ними, и никто из них не шелохнется.
Этот сон настолько необычен, настолько чудесен, что Эмилия старается продлить его. Она представляет себе, как музыка замолкает, лютнист идет к ней через комнату и обнимает ее и детей. И Маркус тоже там! Он стал немного старше — ему, наверное, лет шесть или семь, — он делает в комнате колесо и выбегает в сад, где ждет его гнедой пони с колокольчиками на уздечке.
Смерти в этом сне нет. В доме царит порядок и гармония, и, кажется, нет опасения, что это внезапно исчезнет. «Но, — говорит себе Эмилия, когда сон начинает рассеиваться, — это не реально. Это сентиментальная фантазия. Ей не должно быть места в твоих мыслях».
Она быстро встает и отправляется в парк за крапивой.
Но вечером и в другое время — за едой или в разгар игры в крибидж — мысли ее возвращаются к тому, что Питер Клэр сказал в погребе. Он признался ей в своем чувстве. «Любовь, — сказал он, — по-моему, это слово, которое для него подходит».
Почему она не осталась, чтобы услышать больше, постараться увидеть или прочесть по его глазам и жестам, искренен ли он? Не проявила ли она излишнюю самонадеянность, слишком поспешно заключив, что такой красивый мужчина, как этот, непременно должен быть лжецом? Почему заставила она себя быть с ним такой резкой, если он говорил так вежливо и нежно, что ей хотелось верить каждому его слову?
Эмилия приходит к неутешительному выводу. Она понятия не имеет, как себя повести. Она нелюбезная, невежественная девчонка, которая ничего не знает про мир мужчин и женщин за исключением того, что видела в доме Тилсенов и здесь при дворе. В этих местах ложь и интриги наполняют воздух комнат, но ведь не может быть, чтобы и в других домах Дании было то же самое? Почему признание в любви непременно лживо? Если это вселенская истина, то как вообще может проходить любое ухаживание?
Эмилия размешивает в чашке крапивный отвар. Высасывает немножко через сухую соломинку, как когда-то делала Карен, затем открывает курице клюв и вливает немного жидкости ей в горло. Она повторяет эту утомительную процедуру, пока та не проглатывает полдюйма крапивного отвара.
— Герда… — шепчет она.
Никому иному, как Кирстен, Эмилия поверяет наконец то, что произошло в погребе и как глупо в лирические минуты позволила она себе мечтать о прекрасном будущем с лютнистом.
— Каким лютнистом? — раздраженно спрашивает Кирстен. — Здесь много лет был лютнист, но он был очень стар и, полагаю, уже в могиле. Надеюсь, ты не его имеешь в виду, Эмилия?
Эмилия описывает Кирстен Питера Клэра и видит, что ее глаза округляются.
— Право, — говорит она, — я никогда не видела в Росенборге такого образца красоты, — правда, я больше не посещаю концерты, они скучны, и, когда Король ухаживал за мной, я лишь делала вид, будто люблю музыку. Ты уверена, что тебе все это не приснилось?
— Нет, — говорит Эмилия. — Мне приснилась только та часть, которой не было в действительности…
Кирстен встает и выглядывает в окно. Ее походка становится медленной, и она поддерживает живот, словно он уже тянет вниз. Обернувшись, она говорит:
— Остерегайся красавцев, Эмилия. Я не знала ни одного, который не был бы обманщиком. А что до Англичан: у них репутация людей холодных, но Отто сражался рядом с ними на войне и говорит, что они самые хитроумные соблазнители.
— Ну… — продолжает Эмилия. — Я была очень холодна с ним… Даю вам слово, я не подала ему никакой надежды, и все же…
— Ничего не делай, — говорит Кирстен. — Если случайно с ним встретишься, избегай его глаз. Невыносимо было бы думать, что у тебя разобьется сердце, ведь тогда тебе останется только одно — покинуть меня и вернуться в Ютландию.
— Ах, нет, Мадам, я никогда не вернусь в дом отца.
— Тем не менее я не могу подвергать себя риску пережить такую катастрофу, Эмилия. Я выясню, что за человек этот Английский лютнист. Я раскрою его секреты, потом расскажу о них тебе, и мы решим, что делать дальше.
«Летя к погибели»
Серебро не прибыло. Посланные в Нумедал гонцы не вернулись.
Король Кристиан лежит в темноте, и ему кажется, что он слышит, как стонет его возлюбленная страна, словно корабль, потерявший всю команду. А на горизонте собирается еще более грозный шторм…
Он пытается вспомнить, как прокралась бедность туда, где ее не должно было быть. Он ругает себя за свою манию нанимать иностранных мастеров из желания, чтобы все в Дании было лучшего качества и не напоминало дешевку. Ведь теперь богатеют именно они, сундуки датского серебра и золота уплывают во Францию, Голландию или Италию, и лишь жалкая их часть остается в стране.