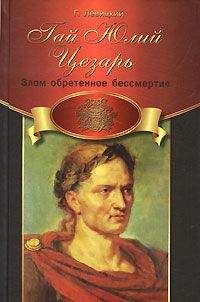Виталий Амутных - Русалия
— … поэтому так хорошо нам за них платят. А знаешь какую жиды деньгу загоняют на перепродаже? О-ю! Потому на них и цена, что до Итиля довезем — хорошо, если половину.
Через три дня умерли сразу две маленьких девочки. А дорога не знала конца.
Дорога равнодушно свершалась, и с каждым днем волею неких неумолимых сил Словиша все приближался к чужедальнему жадному Итилю…
Но в то же время к Итилю пробирался другой человек. Он в полной мере своевольно направлял стопы к той же цели, и, может быть, меньше, но тоже немало претерпел на своем пути. Он тоже никогда не видывал того магнетического места, которое столь неуклонно втягивало в себя людей, их помыслы и поступки, но в любую минуту готов был положить любую цену, чтобы оказаться там. Почти любую. А звали того человека — Хоза Шемарьи.
После того, как воинство русского князя покинула остров Березань, еще полное воинского воодушевления сокрушить самонадеянного греческого царя, три оставшиеся у Моисея Шемарьи корабля, груженые всяческими сокровищами, в сопровождении охранных ладей, по уговору отделились от войска и ушли в противоположном направлении.
Торговля шла так хорошо, что уже в Кафе большая часть товаров была распродана. Моисей досадовал на собственную близорукость, на то, что ему с некоторым запозданием удалось распознать всю выгоду сложившихся обстоятельств, и потому он не сразу догадался предельно поднять цены. Оказалось, что все здесь уж были наслышаны о походе русов на царя Романа, и, предполагая вполне возможный проигрыш Игоря (как и три года назад) в этой войне, заключали вероятие прекращения на какой-то срок появления на местных рынках купцов из его страны. Оттого русские лисы и соболя, целебный мед, воск, орехи, льняное полотно, все расходилось споро, на каком рынке они ни появлялись. Моисей Шемарья продавал доставленный товар втридорога, закупал туземные плоды втридешева, и запросто мог бы уже от Кафы повернуть домой, но отчасти сдавшись на уговоры брата Хозы, отчасти надеясь на оставшемся самом ценном товаре, — белых горностаях, черных соболях и десятке полонян разного племени, перекупленных в Киеве и Витичеве, — иметь самый высокий прибыток, доставив их в Самкуш[215].
— Пойдем дальше! Пойдем в Итиль! — все настойчивее приставал к брату Хоза. — Ну пойдем, там же еще дороже продашь…
— Да ты с ума спятил! — все серьезнее раздражался Моисей. — Ты знаешь, где этот Итиль? Это через всю Меотиду[216], потом по Танаису, потом переволока, потом… В уме ли ты? Да мы все, что выручили по дороге истратим. Итак два корабля у степных дикарей потеряли.
— Все равно Ольга вернет.
— Так это когда будет… А цены сейчас ты видел какие? И чего ради? На дом мэлэха поглазеть? Так нас на Остров не пустят.
— В Итиле все будет в десять раз больше стоить, чем здесь, — не унимался Хоза, все меньше веря в возможность убедить старшего брата. — Там большой город, Мы найдем нужных людей, и когда в другой раз поедем, то все уже будет… К Давиду Шулламу пойдем, он подскажет…
Обоснования настояний Хозы, надо признать, были не просто наивными, но прямо-таки несуразными, и он в свои девятнадцать лет прекрасно это понимал, но тем не менее продолжал день за днем тянуть душу из Моисея, так, что тот в конце концов так озлился, что вовсе перестал с ним разговаривать. Но и это не охолодило жаркой мечты, с какой-то мистической дерзновенностью захватившей сознание юного Хозы. Он тоже прекратил словесное общение со своим братом, но не обида и не молодо-зеленое прекословие принуждали его будто бы играть в молчанку. Он сделался рассеянным ко всему внешнему, но большие масляные глаза его под тенью пушистых ресниц то и дело вспыхивали от некоего потаенного огня, возжигаемого в его душе какой-то необыкновенно сильной и настойчивой мыслью. Так и бродили братья друг подле друга, машинально исполняли обычные действия, даже если те требовали обоюдных усилий, но при этом не обмолвливаясь ни единым словом.
Наконец последние дела в конечной точке их пути — Самкуше — были завершены; все, что привезли — продали, все, что можно было продать в Киеве — закупили, и при том еще изрядная прибыль оставалась в арабских диргемах и византийских номисмах. Ночь перед отплытием было решено (опять же без всяких слов) провести уже на корабле в гавани, чтобы выгадать на гостинице, а заодно иметь возможность без всяких проволочек с первыми лучами зари выступить в обратный путь. Немного поскандалив при расчете с гостинником[217], братья покинули свое временное прибежище, и тут Моисей, видимо, ощутив окрыляющий прилив легкости от чувства исполненной затеи, неожиданно предложил Хозе заглянуть в ближайший трактир и выпить по стопе[218] красного сирийского вина с пряностями. Пить вино было вовсе не в обычае Моисея, но и случай задался исключительный, — Хоза с готовностью согласился. И вот уже они сидели за бесконечно длинным столом, но в чистом зале (вот как Моисей насмелился раскошелиться!), и потому людей рядом было немного, а перед братьями стояли вполне благовидные полуженные медные стопы с вычеканенными по ободам греческими надписями. У Моисея — «Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь». А у Хозы — «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». И хотя задушевная беседа все-таки не вытанцовывалась, какое-то согласие было восстановлено.
— О чем ты думаешь, все о своем Итиле мечтаешь? — вполне примиренческим тоном поинтересовался старший.
— О чем? — младший изумленно поднял широкие блестящие черные брови. — Я и забыл уже о том.
— Вот и правильно, — чуть оживился уже очарованный вином Моисей. — Ты, главное, не торопись. Дойдем мы и до Итиля. Еще и… Может, будешь еще в Иерусалиме учиться в академии, — как видно, чувство реальности начинало покидать его, — или в Пумбедите, или в Суре[219], у самого гаона Саадьи.
Хоза с лукавыми искорками в больших масляных глазах лишь легонько кивал головой в такт становившейся все более сбивчивой речи брата. Когда же Моисей предложил заказать еще чудодейственного напитка, Хоза от вина отказался, внимательно изучая обнаружившуюся на дне своей стопы чеканенную надпись — «пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». А Моисей выпил еще стопу, а потом еще чарку сикера, так что на корабль он шел не то, чтобы вовсе окосевшим, но весьма уставшим от непривычного развлечения.
Под игривое зубоскальство корабельщиков, тех, что тоже ночевали на ладье, взгромоздив брата на устроенное наскоро из мешков и ковров ложе, Хоза, только заслышав первые звуки всхлипывающего храпа (казавшиеся такими благозвучными в этот момент!), не колеблясь запустил руку брату за пазуху и быстрым многажды обдуманным движением ловко отвязал увесистый мешочек от специального нательного пояса. Он огляделся. Хоть ладья была и не особенно велика, — менее десяти сажень, — все корабельщики находились за горами товара на носу, а большей частью на корме. Мягкая легкая ночь лежала над морем. Жирные мохнатые облака тайком пробирались к луне, но свет ее и распахнутых, как цветы, огромных южных звезд обнаруживал их намерение. Море за бортом было спокойно, и казалось бы черным провалом, если бы не возникающие по временам блестки мелкой зыби, придававшие воде подобие земляного масла[220]. Оно любовно плескалось о борт ладьи, едва-едва покачивая ее. Вдоль берега виднелись уходящие во мрак острые мачты больших и малых судов, на некоторых из которых подчас вспыхивали огни. Море спало, но на берегу виднелось еще много огней, и разноголосица чужестранных голосов, хоть и казалась усталым отзвуком дня, все же не давала умиротворенности ночи вовсе сковать жизнь гавани.
Хоза, почему-то ничуть не опасаясь внезапного пробуждения брата, выложил перед собой серебряные монеты, точно в пересмешку игравшие сиянием ночных светил, отсчитал половину. Затем задумался на какой-то миг, возведя взор к цветущим звездам, будто испрашивая у них совета, сгреб все монеты обратно в мешок, сунул его себе за пазуху и направился к сходням. Корабельщикам он сказал, что надумал перед сном пройтись по берегу и, может быть, встретить какую-нибудь бежавшую от хозяев рабыню. Эта его шутка имела исключительный успех, и под срамные шуточки и нескромный гогот он спустился на землю.
Теперь начиналось самое сложное, и, пока он шел вдоль берега, перебирая в уме все пункты многократно просчитанного плана, не единожды подумывал, не возвратиться ли ему, пока не поздно восвояси. Но с какой бы отчетливостью не рисовал разум бездну опасностей, подстерегающих его в предпринятом рисковом начинании, некий более глубокий, более сокровенный подспудный голос по-прежнему нашептывал ему, что он на верном пути. Вновь и вновь всплывало в его мозгу, точно знамение мистическое, начертанное на дне испитой им стопы речение — «пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его».