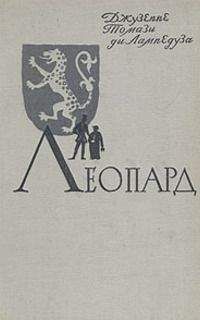Михаил Ишков - Вольф Мессинг
Нетрудно было догадаться, кого он имел в виду.
— В отличие от Штрайхера,[54] — напомнил Вилли, — этот господин твой горячий поклонник. Стоит ли разочаровывать его и давать пищу крикливым демагогам, которых в нашем движении немало. Они готовы с водой выплеснуть и ребенка?
В таком доверии партийца к врагу нации и грязному еврейскому плутократу не было ничего странного, ведь за пару дней до выступления я выполнил свое обещание и представил Вилли список ожидаемых мною авиакатастроф. Затем покаялся, что насчет ближайших землетрясений, потопов и длительного, убивающего тысячи людей голода в небесной канцелярии пока ничего не слышно, разве что на Яве в ближайшее время произойдет извержение вулкана, а Япония нападет на Китай.
— Жаль, — прокомментировал эти сведения Вайскруфт. — От Явы и Японии в ближайшее время доходов ждать не приходится. Что ж, будем ориентироваться на авиакатастрофы.
В списке был указан рейс на Кенигсберг, имевший посадку в Варшаве. Этот вылет был особенно важен для меня, так как аэроплан должен был отправиться в полет сразу после моего выступления в Шарлоттенбурге.
Вилли отнесся к этому прогнозу с полным доверием.
Я перевел дух — умный, умный, а дурак. Решил тягаться с самим Мессингом. Да я, если хотите знать…
С высоты четырнадцатого этажа вынужден прервать поток клеветы, извергаемый на монитор автора. К сожалению, долговязый фантазер довольно точно изобразил наш разговор, особенно лихорадочно-радостный настрой, который охватил меня при ощущении, что Вилли ничего не заподозрил. Только об этом никому ни слова.
Но вернемся в зал.
Получив команду, тут же все — и левые, и правые, — приняли независимый вид, уселись по стойке «смирно» и принялись дружно аплодировать.
Вилли Вайскруфт вышел на сцену и объявил о начале представления. Для начала он предложил выбрать пять человек, которые должны были составить комиссию для наблюдения за медиумом. Моему удивлению не было предела, когда на сцену, без всякого шума и пыли вышли два коммуниста и три нациста. Для меня так и осталось загадкой, каким образом господа Геббельс и Рейнхард сумели сговориться между собой. Не иначе они обладали способностями общаться в сфере оккультного. А может, все дело в традиционном немецком воспитании, требующим повиноваться старшему и не устраивать из мухи слона по всяким пустякам?
Все равно, эта гремучая смесь коммунистов с фашистами вызвала у меня недоброе предчувствие, и, когда пришла необходимость спуститься в зал для поиска спрятанного предмета, я испытал страх. Я опасался плевка в лицо, пинка в зад, толчка в спину или, что еще хуже, удара по голове. Нельзя сбрасывать со счетов и грязную провокацию, на которые ни левые, ни правые никогда не скупились. Если кто-то из членов наблюдательной комиссии решил спрятать что-то политически заостренное, например, красную звездочку или значок со свастикой, скандала не избежать. Однако консенсус был найден, и когда из нагрудного кармана коричневой рубашки какого-то громадного штурмовика (к нему и подойти было боязно) я извлек тюбик дешевой губной помады и продемонстрировал его публике, в зале поднялся неимоверный хохот.
Я перевел дух.
Мне предстояла трудная, полная опасностей ночь. Нервы были на пределе, так что я позволил себе расслабиться и поздравил штурмовика с элегантным цветом помады.
Тот сразу запунцовел, вскочил и принялся доказывать налево и направо, что это жена нечаянно сунула ему помаду вместо партийного свистка.
Публика от хохота едва не начала валиться со стульев.
Второе действие предполагало демонстрацию тайн человеческой психики, а также пророчества, ради которых вся эта разношерстная компания, ведомая своими вождями, собралась в зале. По этому вопросу в перерыве Вилли специально проинструктировал меня. Он заявил, текущий момент требует исключительной сплоченности всех патриотов, выступающих за возрождение Германии, так что без пророчеств нельзя. В том, что я тоже выступаю за возрождение, у него сомнений не было.
— История не может ждать.[55] Ее надо подтолкнуть, а для этого необходим соответствующий настрой. Ты тоже можешь внести свой вклад в подъем народного духа.
— Ты предлагаешь мне взять в руки флаг со свастикой и начать со сцены размахивать им?
— Никто не требует от тебя политических демонстраций. Ты обитаешь в сфере тонких материй, твои мысли возвышенны. От тебя ждут ясного прогноза, провидческого, если хочешь, анализа развития политической ситуации в стране.
— Мне с трудом даются такие высокопарные речи, Вилли. Объясни проще — я должен первым запеть «Die fahne hoch…»?
— Ты опять неправильно меня понял. Мы, — он, словно пытаясь объять необъятное, неопределенно обвел пространство руками — всего лишь требуем объективности, которая соответствует надеждам тех, кто составляет большинство в зале.
— Ты предлагаешь мне солгать?
— Ни в коем случае!! Но если ты обнаружишь в будущем нечто, не совсем совпадающее с германской мечтой, лучше проглоти язык. Сегодня на повестке дня исключительно положительный прогноз. Это будет очень полезно для нашего общего предприятия. Учти, для нашего!
— Я учту, — безропотно согласился я.
Это был закономерный итог общения человека с «измами». В конце концов, верх всегда берут «деловые соображения» или «революционная необходимость». Несчастный начинает прятаться за ними, не сознавая, что такого рода «интересы» являются наиболее гнусной разновидностью «измов», только более грубого, неопрятного помола. Мне не было дела, был ли Вилли честен, уверяя, что его тревожит исключительно успех нашего совместного предприятия. После его слов я впервые воочию ощутил шелест направленной мне в затылок пули. Это ощущение, сопровождаемое разглядыванием замедленных кадров моего расстрела, было настолько невыносимо, что я, сославшись на усталость и необходимость подготовиться ко второму действию, заперся у себя в номере и повалился на диван. Фактически меня подвели к краю пропасти. Дело было даже не в зрелище окровавленного медиума, брошенного умирать в каком-то мрачном перелеске, в сырой, противной яме. И не в том, что в грядущем я ясно ощущал собственное присутствие во плоти и крови. К сожалению, в каком качестве я там окажусь, разобрать было трудно, но то, что будущее все ближе подступало ко мне, все теснее сжимало меня в своих объятиях, было бесспорно. Вокруг мелькали иные, на мой взгляд, нелепые или слишком кричащие костюмы. Странного вида, упакованная в прозрачную пленку еда, прямоугольные сумки из неестественно тонкого, напоминавшего пленку материала ставили вопросы, на которые у меня не было ответов. Что оставалось неизменным, так это неотвязная слежка, которая сопровождала меня и в будущем.
Подспудное чувство, мало зависимое от телепатии, подсказало — час пробил! Пора делать выбор.
Здесь и сейчас.
Либо ты с Вайскруфтом, а, следовательно, с Гитлером, либо ты сам по себе, вольная птица, в поте лица добывающая корм, готовая при любой опасности вспорхнуть в небо.
Это был нелегкий выбор.
Трудность была даже не в преднамеренной лжи, к которой призывал меня Вайскруфт.
Угроза таилась в самой правде.
Правда была немыслима, нежелательна, ужасающа. Я воочию, до покалывания в кончиках пальцев, увидал в будущем господина Гитлера. Он склонил голову перед усатым дядькой в военной форме и шишастом шлеме. Просвещенный Вайскруфтом, я узнал в дядьке стареющего Гинденбурга, избранного в те годы президентом республики.
Его встреча с Гитлером, чья прическа была тщательно вылизана — волосок к волоску — свидетельствовала, что Адди высоко взлетел. Сообщить об этом коричневой публике было для меня величайшим горем, но будущее, чтобы состояться, требовало жертвоприношений. Почему-то жертвы всегда выбирались среди еврейского народа.
Дальше заглядывать я не пытался, потому что, однажды рискнув, обнаружил, что последующие видения могли доконать не только цыгана или еврея, но и француза, поляка, русского. Каждого европейца, начиная с Греции и кончая Норвегией.
Ком ощущений, свидетельств, изредка долетающие до меня обрывки фраз, страх перед выбором, перед шелестящей в полете пулей, перед скверной ямой, жажда жизни, наконец, — необычайно возбудили меня. Никогда ранее я не был так хорош. Ни в берлинском паноптикуме, ни у профессора Абеля, ни во время триумфальных выступлений в Винтергартене, ни в Советской России, даже на смертном одре я не был так хорош. Даже в особняке господина Денадье, я не был так хорош. Я ощутил такую силу мысли, такую убедительность прозрения, что, как только вышел на сцену, шумевшие и переругивающиеся между собой зрители, сразу замолчали.
Сцена была освещена кровавым светом, таинственно шевелились бордовые кулисы, такого же тревожного цвета задник нависал надо мной. Белого вокруг было чуть-чуть, разве что манишка, выглядывавшая из-под фрака Вайскруфта.