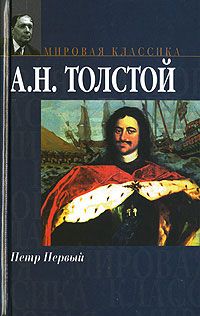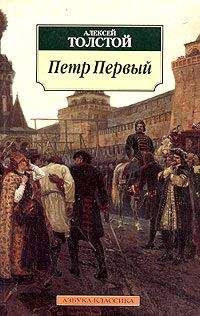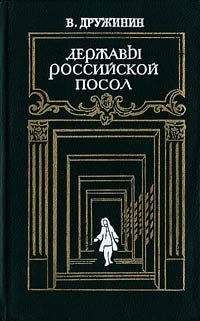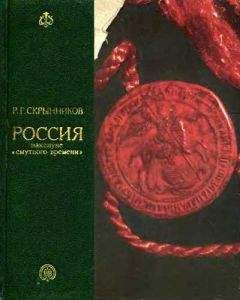Юрий Федоров - Поручает Россия
— Вольно им скакать и прыгать. Мы же прибыли сюда по наиважнейшему делу для государства Российского. Извольте завтра же начать переговоры.
Помолчал. Ракеты погасли, и лицо царя, теперь уже в тени, было почти черным. Глаза неспокойно блестели.
— И поспешайте, — сказал Петр, — поспешайте с делом сим.
В тот же вечер Петр написал в Россию: «Визитовал меня здешний королище, который пальца на два более любимого карлы нашего Луки. Дитя зело изрядно образом и станом и по возрасту своему довольно разумен».
За теми словами нетрудно было угадать боль за своего сына.
Петр писал при свече, фитиль потрескивал. Царь положил перо и надолго уставился на летучее узенькое пламя.
Вице-канцлер Германской империи граф Шенборн был разбужен, противу установленных правил, на час раньше. «Да, — подумал он, — все свидетельствует о том, что я впал в полосу потрясений».
Граф сел к туалетному столику и, печально глядя на свое изображение в зеркале, слабым голосом сказал слуге:
— Просите.
Гремя шпорами, величиной чуть ли не с тележные колеса, в комнату вошел комендант Эренберговского замка. Был он в медной кирасе, в боевом шлеме, со шпагой у пояса. Лицо странно.
Комендант рассказал, что находящийся под его охраной высокородный граф (так величали в целях скрытности царевича Алексея) требует карету и желает немедленно покинуть замок. Дабы задержать отъезд, комендант приказал солдатам поднять выездной мост, опустить осадную решетку на воротах, но ручаться не может ни за что, так как высокородный граф в бешенстве.
— Еще опаснее, — заявил комендант, — дама, сопровождающая высокородного графа.
Комендант поднял руку в боевой перчатке к лицу, и Шенборн разглядел на его щеках кровавые борозды, происхождение которых было понятно без слов.
Шенборн сломал гребешок итальянской работы, крикнул слуге, чтобы подавали платье. Оделся граф как никогда быстро, даже пренебрегая некоторыми деталями туалета, и незамедлительно выехал в замок Эренберг.
К наследнику граф вошел с массивной канцлерской золотой цепью на груди, но был вышиблен из залы неистовыми воплями царевича и его дамы. Круглые глаза стоящего за дверями коменданта в начищенной кирпичом кирасе свидетельствовали, что он готов умереть за особу императора, но сейчас бессилен что-либо сделать.
Вице-канцлер поправил на груди цепь и сделал вторую попытку разрешить конфликт. Дверь перед ним распахнул комендант.
На этот раз все обошлось почти пристойно. Наследник русского царя, правда, еще кричал, топал ногами, метался по зале, но страсти его уже остывали. Царевич беспрестанно повторял:
— Они уже здесь, здесь… В Рим! К папе, упасть к его трону… Они здесь…
Голос царевича срывался. Из выкриков и воплей Шенборн не без труда уяснил, что у ворот замка был Толстой с русским офицером и наследник, перепуганный тем обстоятельством, больше не желает оставаться в Эренберге.
— Я царевич и имею право отправиться куда пожелаю! — кричал Алексей. — И когда пожелаю! Еду в Рим. Извольте приготовить карету!
— Подожди, Алешенька, — сказала сопровождающая его дама. — Нужно ли нам в Рим? Что найдем мы там? Кто защитит нас?
— Папа, — сказал Алексей. Но видно было, что его смутило замечание дамы. Он взглянул на нее искоса, отошел в сторону, встал у окна.
Из окна замка видна была вся долина. Снега уже сошли, и чувствовалось: вот-вот, еще день, два — и долина вспыхнет всем буйством весенних красок.
Алексей засмотрелся на открывающуюся перед ним картину. Яркое солнце, летящие облака, уходящие вдаль горы… Покой и тишина царствовали над долиной. И наследник вдруг забыл и о замке Эренберг, и о Шенборне, и о коменданте в медной кирасе, который не то охраняет его от кого-то, не то стережет, как пленника.
Стоял он так минуту или две.
За спиной раздались голоса. Шенборн говорил что-то Ефросинье, и та отвечала ему. Царевич повернулся, сказал:
— Замолчите!
Шенборн вздрогнул: так сильно, властно, повелительно прозвучало то слово. Вице-канцлер почтительно склонился, понял: перед ним наследник престола великой страны, а он забылся, дав ему комедиантский, нелепый титул высокородного графа.
Ефросинья прижала руки к груди. Ни она, ни Шенборн не узнали о мыслях, промелькнувших в голове у наследника в ту минуту.
А увидел царевич Меншикова с сияющими глазами, в камзоле с распахнутым воротом, со шпагой в руках на крепостной стене под пулями мушкетов; Ромодановского, спускающегося с дворцового крыльца, и гудящую толпу, — под взглядами боярина Федора Юрьевича головы никли, как трава под косой; Толстого с грамотой о заключении мира с турками. И во всем том был восторг, сила, размах. Дела великие.
И, глядя на прекрасный вид долины, открывающийся из окна, подумал Алексей, что на стену крепостную со шпагой он не полезет, в толпу, враждебно гудящую, не войдет и султана на свой лад не настроит. Ему любезнее с Алексашкой Кикиным кривобоким; протопопом Алексеем, гнусившим о боге, а думающим о застолье хмельном; с Лопухиными, алчущими богатства. Среди них он повелитель. И они перед ним головы клонили. Стелились мягко.
Алексей расслабленной походкой отошел от окна, сказал потухшим голосом:
— Уезжать отсюда надо. И уезжать немедля. Куда — не ведаю.
И показалось — не он только что, от окна повернувшись, бросил властное и сильное слово. Нет, не он. Другой человек. Совсем другой. Но того — другого — лишь на мгновение хватило.
Петр Андреевич с годами по утрам подниматься ото сна стал нелегко. Фыркал, чмокал губами, вздыхал, ворочался. Потом все же вылезал из-под перины. Слуга подавал обширнейшие панталоны. Петр Андреевич норовил еще свалиться в подушки, но панталоны кое-как водружали на него, и Толстой восставал к дневным трудам.
Первой заботой был завтрак. Петр Андреевич предпочитал утром, прежде чем откушать чего-нибудь плотного, поесть щей. И не просто щей, каких ни попало, а выдержанных день или два и подогретых в глиняном горшке.
Когда подавали горшок на стол, Петр Андреевич подвигал его поближе и, склонившись, вдыхал пар. Вот тут-то лицо его окончательно после сна разглаживалось, глаза разгорались, и видно было, как кровь восходила по жилам.
Оживившись, Петр Андреевич брал в руки ложку.
По объявившейся у него привычке, любил он во время еды высказывать вслух приходившие вдруг мысли, даже если рядом с ним никого и не было. Случаи такие были, правда, редки, так как Петр Андреевич считал, что за стол одному садиться глупо. Мысли рождались у него за столом разные. По поводу щей Петр Андреевич, например, говорил такое:
— Щи непременно надо варить загодя и выдерживать на холоду. Ежели подавать их с пылу с жару, то это вовсе не щи, а так — одна видимость, вроде бабы по первому году замужем. Пороху много, а толку чуть.
Впрочем, частые гастрономические рассуждения Петра Андреевича были все же не столько выражением натуры гурмана, сколько лукавством. За словами, которые он так охотно рассыпал, сидя за столом, был не только восторг по поводу подаваемых блюд, но прежде желание разговорить вкушающего с ним хлеб. Петр Андреевич был убежден, что человек нигде не бывает столь откровенен, как за столом.
Откушав, Петр Андреевич приказывал закладывать карету. И собирался к выезду так же не торопясь и ничем не омрачая приятные воспоминания о завтраке.
Наконец, выйдя во двор, он быстро подходил к карете, как если бы гнались за ним, и останавливался подле нее словно вкопанный.
Далее торопить его было нельзя. Петр Андреевич осматривал карету. Примечал все: и где потертость какая или трещинка, где камушком ударило или щепочка, отлетев от копыт на ходу, зацепила. Не скрывались от него и мелочи.
— Здесь вот навозец прилепился, а там, — он смотрел на кучера, — недогляд вышел. Голуби у тебя в конюшне-то. Видишь?
И он показывал перстом на некое пятнышко. Выражал сомнения, не скажется ли то пагубно на прочности всей кареты.
— А то может от того, — разводил руками, — и беда случиться.
Так, осмотрев все не спеша, садился в карету и приказывал трогать, махнув рукой на возможные незамеченные порчи и неисправности. Карета ехала не то чтоб уж быстро, но к концу дня оказывалось, что Толстой успевал побывать во множестве мест.
После поездки в Эренберговский замок наладился Петр Андреевич ездить по венским купцам. И заезжал к тем, кто торговал фуражом. Овсы все больше смотрел по амбарам, сеном интересовался, не пренебрегал соломой.
Говорил с купцами подолгу. Сколько продать может? Возможно ли договориться о дальнейших закупках? Только ли в венских амбарах фураж взять можно, или купец доставит закупленное зерно и сено в место указанное?
Купцы спрашивали: куда именно он прикажет фураж привезти? Петр Андреевич отвечал с неохотой. Тянул, мялся заметно. Но называл все же места поближе к землям силезским. А то и прямо силезские города указывал.