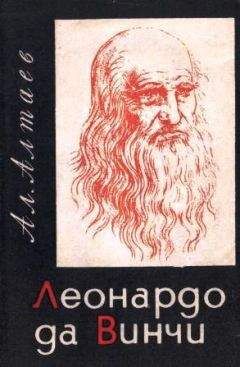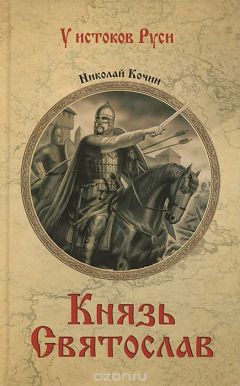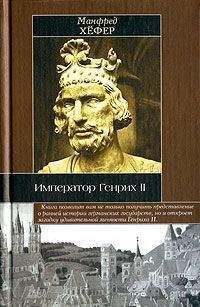Николай Кочин - Князь Святослав
— Пусть эпарх прикажет продавцам продавать хлеб дешевле того, что они берут. Разницу покроют эти народные деньги, вырванные мною у тебя, мошенника.
Жирный, с красными пятнами на лице, куропалат собирал с пола монеты и ревел. Строгость брата превзошла все расчёты куропалата. А царь всё кричал, не утишая ярости:
— И объяви всем во дворце и в городе: каждому вору я велю повесить мешок со взяткой на шею и прикажу водить по городу как позорное посмешище для народа. И пусть всякий имеет право пнуть вора ногою, плюнуть ему в глаза, забросать его навозом и грязью, облить помоями. По делам вору и мука.
Царь приставил провожатого к куропалату и отправил его к эпарху.
После этого, что бы он ни делал, уже не мог успокоиться: везде ему чудились мошенники, изменники и недоброжелатели. В полумраке, при свете лампады, он стал просматривать свои указы, нет ли в них какой-нибудь неосмотрительности…
Нет, он прав, тысячу раз прав, издавая эти законы, вызвавшие ропот вельмож, церкви и гнев самого патриарха Полиевкта. Вот с кем бы он хотел жить в тесной дружбе, да не получалось. Нашла коса на камень: открыто только один патриарх в государстве враждовал с ним… и с тех самых пор, как Никифор захватил престол… Тогда же Полиевкт резко отказался венчать его с Феофано, и даже в соборе загородил собою царские ворота, не пуская в них василевса. И василевс повиновался. Что сделаешь? Суровый патриарх готов был на любую жертву, а такое начало грозило сразу омрачить царствование Никифора.
И вот с этой поры патриарх, добродетельный и суровый, столь же мало снисходительный к слабостям людей, как и сам царь, преданный только церкви и богу, служивший только ему с отчаянной смелостью, с неодолимым упорством, с предельной искренностью — этот неукротимый человек стал предметом непрестанных и тайных дум царя. Как хотел бы Никифор его приблизить, как бы хотел стать ему другом! Нет! Не шёл патриарх на поклон, пренебрегал подарками, похвалами, вниманием царя. Как царь непрестанно жаловался на жёсткое прямодушие Полиевкта и как про себя восхищался им, боялся его, и как ненавидел его за бесцеремонное вмешательство в царские дела.
Царь встал на колени, принялся читать молитвы перед Спасом и жаловаться богу на несокрушимую строптивость патриарха. Но успокоение не наступало. Наоборот! Подняв со дна памяти все жалобы на него церковных иерархов, он ещё больше раздражался. Монахи открыто проклинали царя на площадях, подбрасывали угрожающие письма, в которых перечислялись кровные обиды за то, что он лишал их житейских благ. Глубоко религиозный человек, царь искренне полагал, что святые отцы и духовные пастыри должны бы радоваться тому снятию с них житейского бремени, которое они несли до этого, превращаясь в качестве настоятелей монастырей и церквей с доходами и приношениями в заурядных торговцев, в содержателей харчевен. Ведь земные и денежные заботы отрывали их от бога! Благодарить бы надо указы! Нет, нет! Царские заботы о их чистоте противны были им…
И он наконец не смог дольше терпеть эти мучения души и велел послать за патриархом: он выложит ему все… Он расскажет ему о Калокире.
О, Калокир! Какой это нестерпимый удар! Совсем недавно он был поднят до положения патрикия, и в ответ на это — чёрная измена.
На поле боя — враг был ясен и способы борьбы проверены. Здесь же в роли владыки государства, Никифор иногда чувствовал себя в логове зверя: сидящий за столом, мог оказаться кандидатом на престол, целующий ноги — самым опасным врагом. О, Калокир! Он развязал в нём все страхи и породил неодолимые тревоги. Царь укажет патриарху на неблагодарность и корыстолюбие иерархов… Среди них тоже есть калокиры! Он в упор спросит патриарха, доволен он или нет его царствованием. Пора, пора его испытать.
Дело происходило вечером того самого дня, когда царь побил куропалата. Полиевкт уже знал об этом. Он отслужил вечерню, прежде чем пойти к Никифору.
И вот сухонький старичок с неистовыми глазами пришёл от вечерни прямо в Священные палаты. Царь стоял на коленях перед Спасом, в спальне теплилась лампада. Вериги проступали у царя через полотняную рубашку.
Патриарх сел без приглашения на скамью и покачал головой. Спальня царя напоминала келью монаха, в ней не было и намёка на безумную роскошь двора.
Не дело земных владык встревать в божеские произволения и диктовать указы равноапостольской церкви. Не дело! Гордыня обуяла заносчивого василевса.
Никифор, уголком глаза следя за надменным выражением лица патриарха, продолжал молиться. Он читал у владыки в душе насмешку и презрение к себе. Только он — патриарх знал всю глубину царских грехов, о которых даже на исповеди ни тот, ни другой не заикался…
Ох, ветхий старичок этот — камень на шее царя…
Как сорвавшийся с цепи, царь вдруг обернулся в сторону патриарха, и, брызжа слюной, стал невнятно и торопливо поносить монахов и попов… Этих шалопаев, тунеядцев… пристрастившихся к радостям плотским и забывшим долг перед небом… и перед самою матерью-церковью. Отсюда — измены, неповиновение властям, и грехи, грехи, в которых погрязла империя…
— Сколько врагов родила мне человеческая испорченность… Дьявол, овладевший их душами, окутал непроницаемой мглою их помутневший разум… Но я этого не допущу… Я… Я…
Василевс поднялся с колен и запрыгал в ярости.
Патриарх сказал тихо, утомлённым голосом:
— Подозрительность земных владык, доходящая до преследования невинных, всегда плодит измену и толкает людей на поиски новых властителей, хотя бы даже и чужеземного происхождения. Посеянное царями даёт всходы, по которым дела их и расцениваются…
— Не твоё дело мне указывать, — оборвал его василевс. — Добродетель наша царственная, бдительность и энергия — суть опора и защита против всех бед…
Патриарх вздохнул тяжело и пронзил царя колючим взглядом, проскандировал:
— Помни василевс: есть грех — есть и кара…
Это был жестокий намёк.
Усилием воли царь подавил в себе желание оскорбить патриарха. И, приняв смиренный вид, опять стал жаловаться на измену подданных. Он намекнул патриарху на то, чтобы найти таких изменников и самых близких к владыке и прославленных иерархов. Патриарха превратить в своего агента — до этого не доходил никто.
Наступило тягостное молчание…
— Первые христиане жили в пещерах и питались акридами, — сказал царь. — Они не знали этих пышных храмов, безумных украшений и церемоний богослужения… А наши только и думают о богатстве.
Патриарх поднялся, ударил жезлом об пол и вскричал грозно:
— Ересь богумильская!.. Прокляну…
Он поднял на царя патриарший жезл, весь в рубинах и сапфирах, с тремя один за другим спускавшимися крестами и потряс им в воздухе.
Царь упал на колени и поцеловал руку патриарха…
— Прости, владыко… Грех попутал.
Царь начал молиться, а патриарх следил за ним.
Когда царь кончил молиться и сел в изнеможении, патриарх начал в тоне сухой неприязни:
— Церковь унижена. — Паства обнищала. Голодные монахи, лишённые обителей, бродят по улицам, зарабатывая на пропитание милостыней. По твоей вине, по причине твоих неосмотрительных указов и сатанинских распоряжений. Церкви лишились имущественной опоры и хиреют. Пастыри бегут из столицы, ожесточившись. Гнев и боль эти взрастил в них ты — василевс… своими законодательными бреднями.
— Святейшество! Я тебя не учить меня позвал, а советоваться, — внутренне клокоча от гнева, сказал царь, и, досадуя, что с первых же слов вступили на путь привычной вражды.
— А коли совет мой тебе нужен, вот он. Оставь заботы о земной славе, пекись больше о душе. Войны народ смучали. Вдовы неутешно плачут, сироты бегают по улицам попрошайками; деревенские здоровые парни устилают своими трупами земли азиатских чужих владений. Бряцание оружия, звон тимпанов, зов военных рогов и льстивые бесконечные похвалы придворных твоим воинским доблестям, отучили уши твои слышать рыдание обиженных, а глаза твои видеть слезы осиротевших детей и матерей, стенания «убогих». Царь, ты кощунствуешь…
— Довольно! — вскричал царь, не имея больше сил сдерживаться. — Твоё дело молиться о нашем спасении, а не вдаваться в дела государственного управления, в котором пастырю церкви и понимать-то воспрещено…
Чтобы скрыть искажённое гневом лицо, он повернулся к патриарху спиною. Патриарх совершенно спокойно сказал:
— Раз душевный и смиренный совет мой, на который я получил твоё же соизволение, в такое приводит тебя неистовство, я умолкаю, государь.
— Я риторике не обучен. Моей наукой было воинское поле. Но я разгадываю и яд твоих намёков и зловредность умыслов, святейшество. Да, очень хорошо разгадываю.
— И это — благо. И это уже первый шаг на пути государственной мудрости.
Никифор пуще обозлился: