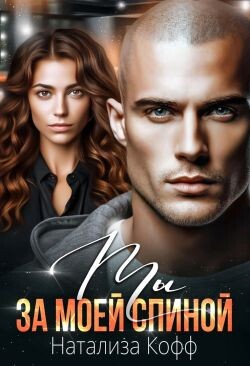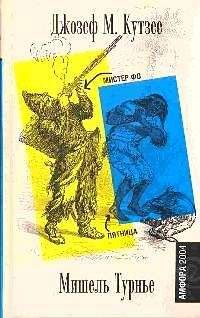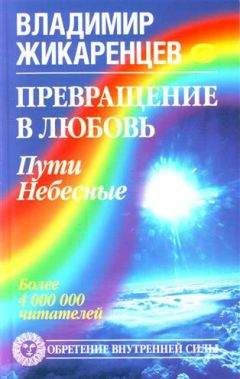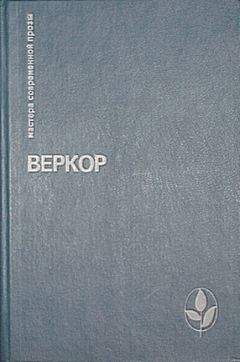Молчание Шахерезады - Суман Дефне
– Дай бог, Катина му, макари [61].
– Ты только погляди, как дочка-то моя загорела! Пока мы, значит, на террасе сидели, она возьми да прыгни в море. Да еще и заплыла так далеко, что ее, бесстыдницу, с мужской стороны было видно. Несибе-ханым – знаешь, тучная такая женщина, в Караташе за порядком следит, – чуть было не запретила Панайоте туда приходить, честное слово! Я уж едва уговорила простить дочку на этот раз. Но конечно же, все лицо и шея у нее обгорели.
Фотини с любовью посмотрела на раскрасневшиеся, покрытые капельками пота щеки и черные глаза с яркими искорками. В задней половине аптеки она целыми днями готовила крема, масла и эликсиры для женщин, приходивших к ней с мечтой вернуть себе красоту и сияние пятнадцатилетних девушек. И ей всегда делалось радостно, когда она видела перед собой воплощение молодости, того самого источника сияния, которое не вернуть уже никакими мазями. С притворным гневом Фотини пожурила девушку:
– Ах, Панайота му! Что же ты наделала, красавица? Почему тебе не сидится под зонтом? Смотри, почернеешь вся, и никто тебя замуж не возьмет. – Но, увидев, как та погрустнела, добавила: – Да что ты, что ты, я же пошутила. Ты сегодня не в настроении? Что губы-то надула?
В глазах Панайоты заблестели слезы. Даже чужой человек заметил ее печаль, а родная мать как будто ничего не видит!
– Все хорошо, – ответила она едва слышно.
Катина лишь махнула рукой, как бы говоря аптекарше не обращать внимания. Пока Фотини готовила в стеклянной ступке мазь, они с дочкой молча пили предложенный им ледяной вишневый шербет в сумрачной прохладе аптеки.
Панайоте уже опостылело слушать одно и то же: что она чудо, дар Божий, самая главная драгоценность матери. К черту это все! Лучше бы она, как Адриана, родилась пятым ребенком, а после нее – еще трое. Отец работал бы садовником, братья ходили бы по тавернам и играли на сазе, а мать была бы прачкой. И никто бы не надоедал ей излишней опекой, не возлагал на ее плечи это бремя «дара Божия». И даже… она даже хотела, чтобы вместо матери, которая так боится ее потерять, у нее была другая мать, которая при таком-то количестве детей, запутавшись, называла бы ее иногда чужим именем.
Когда они вышли на площадь, слова вырвались из нее, как кипящая лава из вулкана:
– Если я еще слишком мала для ночных гуляний, то скажи, мама, когда же я буду достаточно взрослой? После того как выйду замуж и погрязну в детях и делах? Твоя излишняя осторожность мне уже надоела! Я тоже хочу жить по-настоящему.
Еще до того как договорить, она уже пожалела о сказанном. Мама расстроится. И станет надумывать разные глупости. Не поднимая головы, Панайота украдкой взглянула на Катину. Но что это? На веснушчатом лице сияла улыбка. Ну и чудеса!
В молчании они шли по улице Френк мимо лавок с белыми навесами. Вот и витрина магазина Ксенопоуло, но Панайота даже не замедлила шаг. А ведь обычно тянула мать внутрь, чтобы полюбоваться на одежду и сумочки, привезенные из Лондона и Парижа. Мимо Французской больницы шел, согнувшись в три погибели под тяжестью корзины, торговец зеленью, родом с Крита. Не обменявшись с ним и парой слов, Катина купила пять кабачков, немного помидоров и сложила Панайоте в корзину.
Всякий раз Катина останавливалась перед больницей, где родилась ее дочка, непременно вспоминала о тех чрезвычайно тяжелых родах и показывала окно палаты, где она впервые взяла свою малышку из рук медсестры, появившейся из-за ширмы в момент, когда Катина уже не сомневалась, что дочка ее умерла. Эту историю Панайота знала наизусть.
Но в тот день они молча прошли мимо желтых стен.
Опустилась вечерняя прохлада, и женщины в их квартале, выставив перед домами стулья, ждали молодежь, которая должна была вот-вот вернуться с моря. Ребятня уже носилась с гамом по площади. Катина помахала рукой тетушке Рози. Панайота поискала взглядом Эльпинику с Адрианой. Сейчас они смоют с себя пыль и пот, приоденутся и, наверное, все вместе пойдут на Кордон есть мороженое. Неплохо бы и лимонаду выпить – она ведь отказалась только назло матери. Но прежде надо решить вопрос с ярмаркой. Пока она думала, как бы снова об этом завести речь, Катина заговорила первой:
– Кори му, скажи, кто еще едет на эту ярмарку?
Целых две недели дочка пыталась ее убедить, и, если честно, Катина уже не знала, что делать. Одно дело сходить на Кордон поесть мороженое, а совсем другое – плыть уже затемно к Айя-Триаде. У нее язык не поворачивался дать ей разрешение. Хоть она и знала местных ребят с самого их рождения, но также знала и то, как мало доверия мальчишкам в таком возрасте. Не дай бог кто-то посягнет на ее милую Панайоту. А она, опьяненная ночным воздухом, возьмет и… Ах, упаси Господь!
После близнецов у Катины целых четыре раза случались выкидыши, поэтому страх потерять и Панайоту поселился в ее душе еще задолго до того, как дочка появилась на свет, а после тяжелых родов, когда они обе были на грани смерти, страх только окреп. За прошедшие с тех пор годы к кому только не обращалась Катина: и к священнику из их квартала, известному своим умением защищать от сглаза, и к почтенному старцу из района Басмане, отгонявшему несчастья; что она только не предпринимала: и подношения делала, и свечки ставила, и освященную воду перед окном в полнолуние оставляла. И вот Панайота выросла здоровой, красивой, умной девочкой, но и теперь изначальный страх никуда не делся. Наоборот, с каждым днем становился все сильнее, как становилась все заметнее седина в волосах.
Мало того, в последнее время дочка так похорошела, что стоило только зацвести лимонным деревьям, как чуть ли не все парни их квартала похватали свои скрипки, сантуры и бубны и принялись распевать серенады под окнами их дома. Правда, непонятно, посвящались ли их песни Панайоте или же светловолосой красавице Эльпинике, жившей по соседству, окно в окно, но факт оставался фактом: каждую ночь горлопаны не давали спать всей улице. Акис лишь посмеивался, а Катина места себе не находила. Даже если пели они для Эльпиники, Акису следовало что-то предпринять. Их сосед Ираклис-бей уже несколько месяцев лежал в больнице с туберкулезом. Старший брат Эльпиники так и не вернулся из Афин, а значит, это был соседский долг ее мужа – дать понять всем, что о девушке есть кому позаботиться. Ну а важней всего было, конечно, защитить их Панайоту.
Ночную тишину под балконом разрывали ломающиеся мальчишеские голоса под звуки скрипки и сантура, и Акис подтрунивал над женой:
– А чего ты ожидала, Катина му? Или забыла того парня, что читал стихи под твоим собственным окном?
Катина ворочалась с боку на бок и наконец отвечала, понимая, что противоречит сама себе:
– Разве я была тогда совсем еще ребенком, Продрамакис-бей? Нет, я была уже девушкой на выданье. А ты посмотри, Панайота ведь еще прыгает через скакалку. К тому же и времена изменились. Наша дочь ходит в лицей Омирион.
Акис обнимал встревоженную жену.
А я помню и то, как ты прыгала. Помню, подбегу, дерну тебя за косичку – и уношу ноги что есть мочи, а ты за мной, и ведь не отстанешь, пока не загонишь меня в угол. Тебе тогда и пятнадцати не было, вре Катина.
От приятных воспоминаний о годах юности в Чешме на душе у Катины становилось чуть спокойнее, но вот из-под балкона снова доносился чей-то голос, и гнев ее возвращался.
– Акис-бей, пора положить этому безобразию конец. Что это за такое? Можно подумать, мы, как какие-то деревенщины, выставили на крышу пустой кувшин и объявили всем, что у нас дочка на выданье. Стыд-то какой! Если тебе нет дела до родной дочери, подумай хоть о нашей соседке Рее. Муж слег с туберкулезом, сын сбежал на Хиос, только чтобы не угодить в трудовой батальон, устроился в Афинах и завел там семью. А эти бессовестные положили глаз на ее дочь. Ей-богу, это все только из-за того, что из нашего квартала лишь Панайота с Эльпиникой ходят в лицей Омирион. А это ведь ты настоял. Вот отдали бы ее в школу при церкви – и никаких проблем, никакого позора на нашу голову. Ты погляди на этих двух: пока в лицее корпели над учебой рядом с теми форсуньями, вон тоже нахватались от них.