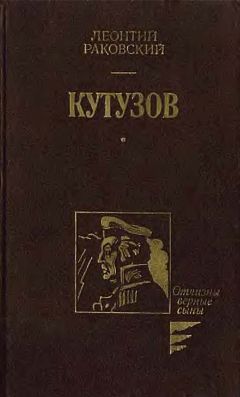Леонтий Раковский - Изумленный капитан
– Хлебушка нетути.
– Врешь, все вы лодыри, лентяи!
– Вот те крест святой, матушка-барыня, что не вру! В Савелове мужики целую зиму желуди с лебедой ели… Землица не родит…
– А от чего не родит? От вашей лени…
– Старики бают, будто от того, что женский пол царством владеет. Какое нонче житье за бабой? – сгоряча выпалил староста свою затаенную мысль и сам ужаснулся сказанному.
Алена испуганно оглянулась – не слышал ли кто-нибудь еще, не скажет ли какой-либо холоп «слово и дело». У нее даже задрожали руки.
– Что ты, что ты мелешь, дурак? Давай бумагу!..
Староста, чувствуя свою вину, торопливо вытащил из-за пазухи листок.
– Вот извольте, матушка, прочитать. Наш поп, отец Яков, написал.
Возницын криво усмехнулся:
– Как бы не так – прочтет!
Он знал – Алена читала только печатное. Писаное разбирала с превеликим трудом.
Возницын ждал: сейчас покличет его на помощь.
Так и вышло.
Золотой императорский вензель на лядунке потух – в дверях, заслоняя свет, стала Алена.
– Саша, погляди покормежную. Трофим просит отпустить. Как ты думаешь?
Возницын, нехотя, встал.
– Ежели недород и на месте нечем жить, почему не дать покормежной?
Он вышел в «ольховую» горницу и, не обращая внимания на старосту, который низко кланялся помещику, сел за стол. Взял четвертушку, коряво исписанную какими-то бледными чернилами.
– Тут неособенно прочтешь, – подумал он и сел разбирать написанное.
«1733 года, августа в 15 день, Коломенского уезда, сельца Непейцила, Александра Артемьевича Возницына крестьянин Трофим Родионов бил челом господину своему, чтоб кормежную взять итти на волю кормиться черною работою, где ему пристойно по городам и по селам, по мирским деревням…»
Написано было правильно.
Возницын глянул на обороте четвертушки:
«…и старостам и соцким и десятским велено держать без всякого опасения, что он вышеписанный крестьянин человек добрый, не солдат, не матрос и не драгун и не беглый, подлинно Александра Артемьевича Возницына беспахотный крестьянин бобыль, отпущенный для скудости своей…»
– Где чернила? – не глядя на жену, спросил Возницын.
Алена засуетилась по горнице, торопливо достала с полки чернильницу и перо. Перо было плохо очинено – писали им ни весть когда.
Пока Возницын чинил перо, Алена Ивановна, стоя у стола, продолжала говорить старосте:
– А не убежит он вовсе куда-нибудь? Гляди, знаешь ли этого человека? За него нам приходится по осьми гривен в год платить. Утечет – с тебя доправлю! У нас вот так, у маменьки, еще при царе Петре, дали вольному человеку ссудную запись в десяти рублях. Обещал за тую ссуду жить вечно в холопстве, а потом – как в воду канул. Ищи его. Теперь ни десяти рублев, ни холопа!
«Дура-баба!» – подумал Возницын.
– Так то ж ссудная, кабальная запись, – сказал он, – а это – покормежное письмо. Никуда он не денется!
И стал подписывать бумагу.
В это время на дворе залаяли собаки.
Алена глянула в окно.
– К нам кто-то на тройке!
Возницын сунул старосте подписанное покормежное письмо и кинулся в темную палату приодеться – он ходил дома в рубашке с косым воротом и в башмаках на босу ногу.
Возницын был рад приезду неожиданного гостя. Ему надоело сидеть с этим бабьем – не c кем слова молвить: с женой не до разговоров, а Настасья Филатовна все норовит говорить иносказательно, чтобы задеть его. Рассказывает, как кто-то принудил жену постричься в монастырь, а сам потом женился второй раз.
Возницын одевался и слушал, кто приехал.
Приезжий на крыльце говорил уже с Аленой. Это был князь Масальский.
«Как его принесла сюда нелегкая. Ведь, он же в лейб-гвардии Семеновском полку, в Питербурхе!» – думал Возницын, натягивая старые лакированные с раструбами, кавалергардские сапоги.
– Ай да Масальский – опять что-либо выкинул! Ловкач! – усмехнулся Возницын.
Ссора, которая произошла у них пять лет назад по поводу Софьи, была давно улажена – Возницын сделал вид, что забыл. Масальский приехал на свадьбу, винился, что был в тот раз пьян. Возницын примирился с ним.
– Что с него взять: бахарь!
– А где же это наше благородие, господин капитан-лейтенант? – говорил князь Масальский, входя в «ольховую».
– Он – дома в затрапезном ходит, должно, суплеверст этот надевает, – сказала весело Алена Ивановна.
Возницын вышел в «ольховую».
– Вот и я! Ты это, князь, каким ветром? Что здесь делаешь? – здороваясь с товарищем, спросил Возницын.
– Ездил осматривать свои монастырские вотчины. Дай, думаю, мирян проведаю, како живут!
– Да нет, не шути, скажи в самом деле!
– А вот раньше попотчуй, поднеси винца, тогда расскажу!
– Афонька! – крикнул по-холостяцки Возницын, подходя к двери.
Алена вся залилась краской и вскочила с места.
– Да, ведь, я уже сказала! Сиди, без тебя подадут!
Она была задета тем, что муж будто не замечает ее присутствия, будто в доме нет хозяйки.
– Вот видишь – и получил! – улыбнулся Масалыский.
Алена, шагнула в сени, но в дверях столкнулась с Настасьей Филатовной: Шестакова, расставив руки, несла на подносе графин, чарки, грибы, свежесоленые огурчики, студень.
Все уселись за стол.
Алена сидела, красная от возмущения и не глядела на мужа – не могла ему простить обиды.
Возницын, не обращая на нее внимания, разливал по чаркам вино, улыбался.
– Ну так рассказывай, как ты попал сюда – поднял он чарку.
Масальский выпил, крякнул, потер рука об руку и, берясь закусывать сказал:
– По царицыну указу назначен в Москву.
– Куда?
– В Вознесенский девичь монастырь.
Алена даже отодвинулась от князя: уж не рехнулся ли человек?
– Кем? – спросил Возницын.
– Игуменом.
– Как игуменом? – переспросила Алена, и по ее лицу скользнула улыбка – так нелепо было это назначение.
– А очень просто – игуменом.
– А где же ваша сестрица, игуменья, мать Евстолия? – спросила Настасья Филатовна, надеясь, что поймала князя Масальского.
– Царица вызвала ее в Питербурх.
– Зачем?
– Долго рассказывать. Сестру оболгали. Признаться, она, легостно наказала какую-то келейницу розгами, а та донесла.
– Вот свет нынче каков. Вот оно как – и за дело не побей! – возмущалась Алена.
– Нет, тут что то не так, – смеясь, мотал головой Возницын. – Тебя назначить игуменом девичьего монастыря? Да это все равно что козла – в огород!
– Не веришь? Скажешь – лгу? – спросил Масальский. – Поедем сейчас со мной, сам увидишь.
Возницын с удовольствием ухватился за это предложение. Сидеть дома не хотелось.
– А что ж, охотно съезжу!
Алена Ивановна неодобрительно посмотрела на мужа: послезавтра уезжает в Питербурх и не может последние дни посидеть дома.
– Ну, а ты как? Когда в Питербурх? – спросил Масальский.
– Послезавтра. Торопят ехать. Произвели в капитан-лейтенанты, дали не в зачет полное месячное жалованье, а не доверяют нашему брату, бывшему кавалергарду. Не хотят, чтоб мы в Москве засиживались, – ответил Возницын.
– А зачем ты прошение Черкасского подписывал?
Возницын махнул рукой.
– Сдуру подписал. Я в это время стоял на карауле у гроба его величества, ты же помнишь. Пришел сам Ягужинский – сунул перо в руки – пиши! Ну так вся наша смена, тридцать шесть кавалергардов, и подписала. А ты где в это время шатался, что тебя не было в печальной зале?
– Я только что сменился и ушел к фрейлинам! – улыбался, победоносно оглядывая всех, Масальский.
Он выпил чарку водки, захрустел огурчиком и сказал:
– Помнишь, Саша, как ты мне говорил тогда: Анна Иоанновна льготы шляхетству даст, в службе лет посбавит! Ан нет: послужить, видно, нам еще!
– Тогда все так думали, – ответил Возницын.
– Ну, ступай одевайся! Мне пора ехать – к вечерне надо поспеть.
Возницын встал из-за стола и ушел в темную.
– Надевай кавалергардское – покрасуйся напоследок. В Питербурхе снова в бострок влезешь! – крикнул Масальский. – Ты у меня будешь в роде наместника. Монахини и так испужались, как увидели меня, а теперь – совсем беда. Чего доброго, на твой супервест, на Андрея первозванного, креститься будут!
Алена Ивановна сидела хмурая.
– А вы, приятельница моя, сестрица, похудели что-то. Вам бы надобно дородничать! – сказал Масальский, глядя на Алену Ивановну.