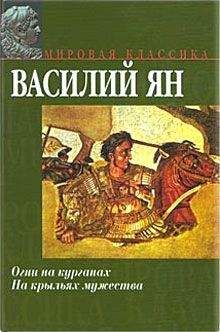Гор Видал - Империя
— А что же вы, сэр?
— Я лояльный республиканец. Маккинли — глава партии. Мне предложили пост редактора «Харперс уикли». Можете это написать. Можете также сказать, что я испытываю искушение согласиться, когда в будущем году истечет мой губернаторский срок. — Из холла в гостиную вошел помощник и протянул губернатору газетную вырезку, Блэзу удалось это разглядеть. Из какой газеты? подумал он; очевидно, из «Сан». Когда помощник вышел, Рузвельт снова вскочил на ноги и зашагал взад-вперед без всякой видимой цели, кроме удовольствия, которое эти мощные усилия ему вероятно доставляли. — Президент спустил с цепи генерала Макартура[83] на повстанцев. Я требую безоговорочной капитуляции на наших условиях, однако скромный губернатор штата Нью-Йорк не имеет голоса при решении столь важных вопросов.
— Но к вам прислушиваются, сэр. — В голове Блэза складывалась если не статья, то хотя бы сюжет. — Вы выступаете за нашу экспансию повсюду?
— Повсюду, где мы нужны. Прежде всего нам надлежит быть мужественными. К тому же всякое расширение цивилизации, а в этом отношении нам нет в мире равных, означает торжество нашей религии, нашего закона, наших обычаев, нашего духа современности, нашей демократии. Если где-то наша цивилизация сумеет закрепиться, это будет победа закона, порядка и справедливости. Взгляните на эти погруженные в ночь острова, что с ними будет без нас? Кровопролитие, хаос, бандитизм… Агинальдо — это просто тагальский бандит.
— Некоторые считают его освободителем, — начал Блэз, понимая, что губернатор может извергать свои банальности часами.
Но теперь его было не остановить. Рузвельт быстрыми шагами описывал круги в центре комнаты. Его поглотил поток словоизвержения. Когда он говорил, он пускал в ход все трюки, как если бы перед ним был не Блэз, а десять тысяч зрителей в Мэдисон-сквер-гарден. Руки вздымались и падали, голова откидывалась назад, словно дуга вопросительного знака; правый кулак ударял о левую ладонь, как бы обозначая конец очередного безупречного аргумента и предвещая начало следующего.
— Дегенерация малайской расы — общепризнанный факт. Это прежде всего. Мы можем принести им только добро. Они сами могут причинить себе только вред. Когда люди, подобные Карнеги, говорят, что филиппинцы сражаются за независимость, я отвечаю, что любой аргумент в защиту филиппинцев равнозначен аргументу в защиту апачей. Каждое слово в защиту Агинальдо это аргумент в пользу Сидящего Быка[84]. Индейцев невозможно цивилизовать, как нельзя цивилизовать и филиппинцев. Они стоят на пути цивилизации. Вы можете, конечно, клясться именем Джефферсона… — Рузвельт горящими глазами смотрел на Блэза, который ничьим именем клясться не собирался. Он глядел прямо перед собой на круглый живот, золотая цепочка на котором одобрительно позвякивала в такт настроению ее владельца — воинственному, имперскому. — Должен вам напомнить, что когда Джефферсон писал Декларацию Независимости, он не включил индейцев в число тех, кто должен обладать нашими правами.
— А также и негров, — ухмыльнулся Блэз.
Рузвельт нахмурился.
— Рабство — это нечто иное, и оно нашло в должное время разрешение в горниле Гражданской войны.
Блэз попытался себе представить, как выглядит мозг политического деятеля. Есть ли в нем выдвижные ящички с надписями «Рабство», «Свобода торговли», «Индейцы»? Или же готовые аргументы висят на крючках, как сохнущие газетные гранки? Хотя Рузвельт считался уважаемым историком, писавшим и даже читавшим книги, он не был в состоянии сказать что-нибудь такое, чего вы уже не слышали тысячу раз. Видимо, в этом и состоит искусство политического деятеля: придавать общеизвестному ореол новизны, вдыхать в него страсть. Самого же губернатора собственная риторика завораживала.
— Джефферсон купил Луизиану, не спросив согласия индейских племен, которых он приобрел вместе с землей.
— Не спросил он и семью Делакроу, и еще примерно десять тысяч французских и испанских жителей Нового Орлеана. Мы до сих пор ненавидим Джефферсона.
— Но с течением времени вы вошли в республику как свободные граждане. Я сейчас говорю только о дикарях. Когда мистер Сьюард купил Аляску, разве мы спросили согласия эскимосов? Нет. Когда индейские племена подняли восстание во Флориде, разве предложил им Эндрю Джексон права гражданства, к которым они не были готовы? Нет, он предложил им только правосудие. Именно это мы и дадим нашим меньшим желтым братьям на Филиппинах. Они получат правосудие и цивилизацию, разумеется, если воспользуются этой счастливой возможностью. Мы сохраним острова за собой! — Рузвельт внезапно угрожающе и быстро защелкал зубами; ну точно машина, подумал Блэз, размышляя над тем, как, какими средствами сумеет он жалкими словами описать эту причудливую личность. Снова в голове возник образ заводного игрушечного солдатика. — И мы учредим там стабильное, упорядоченное правление, чтобы еще одно пятнышко, — кулак нанес мощный удар по ладони, — на поверхности Земли было нами выхвачено, — две короткие ручки судорожно ловили невинный теплый воздух гостиной, словно защищая его от зимнего холода, — у сил тьмы! — На краешке нижней пухлой губы губернатора выступила пена. Он смахнул ее тыльной стороной ладони, которая одновременно держала клочок пространства, выхваченного им у сил тьмы.
— Вы абсолютно уверены, что мадемуазель Сувестр атеистка? — Губернатор внезапно плюхнулся в кресло. Он задвинул ящик с Филиппинами на место и запер его на ключ.
— Так мне говорили. Сам я с ней не знаком. — Блэз старался держаться нейтрально. — Она активно выступала в поддержку капитана Дрейфуса. — Это вовсе не прозвучало как non sequitur[85], поскольку именно вольнодумцы активно защищали Дрейфуса. Но губернатор его все равно не слушал.
— Бейми, то есть моя сестра, говорит, что на религиозные убеждения мадемуазель Сувестр можно закрыть глаза. Я думаю, что моей племяннице Элеоноре стоит воспользоваться этой возможностью. — Затем губернатор разразился часовой тирадой. Он хочет, чтобы на Кубе и Филиппинах правили сильные проконсулы. Он обсудит эту проблему с президентом. Он считает, что чем скорее военный министр Элджер, ответственный за снабжение войск тухлым мясом, уйдет в отставку, тем будет лучше. Блэзу удалось все же задать один или два вопроса о взаимоотношениях губернатора и сенатора Платта. Ну разумеется «потрясающие», хотя всем было известно, что они на дух друг друга не переносят, и Платт терпел Рузвельта только потому, что после скандалов с предыдущим губернатором республиканцы наверняка потеряли бы штат. В то же время Рузвельт, этот неистовый реформатор, нуждался в республиканской политической машине, чтобы добиться избрания. Не было секретом и то, что он хотел быть в сенате рядышком со своим другом Лоджем; не составляло тайны и то, что Платт и не думал поступаться своим местом в угоду губернатору, который требовал теперь, чтобы любая корпорация, получающая субсидии, платила налоги. Это был удар, в частности, по Уильяму Уитни, миллионеру-демократу, владевшему бесчисленными трамвайными линиями и, как говорили, золотым ключиком от Таммани-холла. Уитни служил в кабинете президента Кливленда, он усыновил Пейна, однокашника Блэза.
Во время этой декламации голос губернатора то и дело менялся от нежно-вопрошающего до строго поучающего, как у бога Иеговы; он исполнял дюжину разных ролей и все одинаково плохо, но увлеченно. От нечего делать Блэз вдруг подумал, как думал не раз в этом все еще чужом ему городе, есть ли у такого человека любовница или же он посещает бордели (только в одном сомнительном районе Нью-Йорка их больше, чем во всем Париже), или же он с железной решимостью ограничивается благосклонностью второй жены.
Вспомнив о Пейне Уитни, Блэз задумался о сексе. Однажды в Йеле он невинно спросил жизнерадостного Пейна, есть ли в Нью-Хейвене приличный бордель. Парень покраснел до корней волос, и Блэз понял, что его двадцатилетний однокашник все еще девственник. Дальнейшие тайные расследования не только убедили Блэза в том, что большинство молодых людей в его классе девственники, но и объяснили, что именно по этой неестественной причине они долго и нудно говорили о девочках из общества, с которыми были знакомы, а также тяжело напивались, как делают в Париже только чернорабочие. Поэтому он никому не открыл, что в шестнадцать лет вступил в связь с подругой отца Анной де Бьевиль, что была двадцатью годами его старше и состояла в счастливом браке с директором банка; ее сын, старше его на два года, учил его в Сен-Клу стрелять; какое-то время он был его лучшим другом. Молчаливо подразумевалось, что Блэз был любовником его матери, и тема эта никогда не обсуждалась. Понятно, что строгие нравы Нью-Хейвена он воспринимал болезненно.