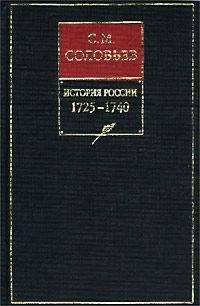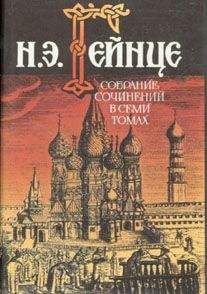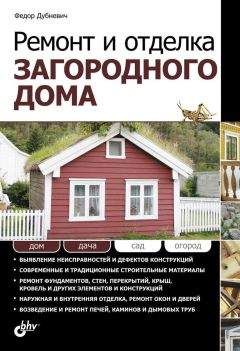Николай Гейнце - Генералиссимус Суворов
Это-то и случилось с княжной Варварой Ивановной по отношению к князю Баратову. Их дружеские, по-детски со стороны княжны, товарищеские отношения еще более крепились тем, что княжна Варвара, несмотря на разницу лет, подружилась с сестрой князя, Александрой Яковлевной.
Княжна Варвара положительно обожала последнюю, и та за это внушенное ею чувство платила молодой девушке признательной привязанностью.
Оба княжеские дома стали в короткое время очень близко друг к другу. Это не осталось незамеченным московскими светскими кумушками, и те разнесли об этом весть по всем светским гостиным, где даже заговорили о сватовстве еще тогда, когда о нем не было и речи.
В мае 1771 года случилось обстоятельство, еще более подтвердившее эти слухи.
Князь и княжна Баратовы уехали в свое подмосковное имение, отстоявшее от города всего в двенадцати верстах. Это был чудный уголок природы, украшенный искусством. Все, что может придумать изысканный вкус и праздное воображение богатого барства, все соединилось в этом подмосковном родовом имении князей Баратовых.
Дом-дворец, убранный с царскою роскошью и стоявший в глубине роскошного парка с вековыми деревьями, окруженный цветником, где сочетание цветов ласкало взор, а их аромат разносился на далекое пространство. Грандиозные оранжереи со всевозможными заморскими фруктами, плодовый сад, великолепные купальни на зеркальном пруду и на протекавшей у подножия дома-дворца серебряной лентой Москвы-реки. Несколько десятин векового соснового леса, с расчищенными дорожками, давали прохладу и насыщали воздух здоровым смолистым запахом сосны.
Фонтаны самых причудливых форм, великолепные мраморные и бронзовые статуи украшали цветник и парк и делали поместье князей Баратовых одной из тех затей русского барства, которые становятся впоследствии историческими памятниками.
Первый год выездов с неизбежными треволнениями и далеко не регулярной сравнительно с прежней жизнью отразился на и без того слабом здоровье княжны Варвары Ивановны. Она стала жаловаться на грудь и слегка покашливать. Это сильно обеспокоило князя Ивана Андреевича. Призванные доктора прописали отдохновение и сосновый воздух.
В уме князя Владимира Яковлевича, услыхавшего от князя Ивана Андреевича этот совет докторов, мелькнула мысль, которую он не замедлил привести в исполнение. С помощью сестры он уговорил князя и княжну со всем семейством, то есть племянниками, учителем, Капочкой и нянькой княжны Терентьевной, переехать на жительство в Баратово, как называлось подмосковное имение князя Владимира Яковлевича.
Князь Иван Андреевич хотел ехать в свое имение, но, к несчастью, в окружающих его лесах сосна попадалась очень редко, и слава Баратова, как по преимуществу лесистого соснового места, в связи с советом докторов, было лучшим аргументом в пользу принятия этого любезного приглашения.
Княжеское семейство поднялось и выехало «погостить», как говорил старый князь, к Баратовым. Прогостили они вплоть до первых чисел августа.
Чума в Москве в это время начала уже сильно косить свои жертвы среди простонародья. Оба княжеские семейства решили переждать с переездом в Москву до окончания страшной эпидемии, как вдруг мор начался в расположенном близ Баратова селе. Это была буквально повальная смерть, не щадившая никого. В несколько дней умерло несколько сот душ.
Оказалось, что чуму занес в Баратово из Москвы один фабричный, уроженец села. Отправляясь домой, из зачумленного города, он не утерпел и купил жене в подарок кокошник, принадлежавший, по-видимому, умершей от этой страшной болезни. Первою жертвою чумы пала жена этого фабричного, затем его четверо детей и, наконец, он сам.
С быстротою молнии болезнь перекинулась на другие избы, и скоро за несколько дней до того цветущее село стало громадным кладбищем.
Оба княжеские семейства поспешно выехали в Москву, где в то время еще эпидемия не принимала таких колоссальных размеров, что, впрочем, случилось весьма скоро. Князья Баратовы и Прозоровские попали из огня да в полымя. Впрочем, в Москве в то время жило много знатных и богатых бар, и принятые меры спасали большинство от заразы.
Главный контингент жертв грозной чумы составляли бедняки и отчасти люди среднего достатка. Знатные богачи оградили свои дома, подобно неприступным крепостям. Привезенные из деревень запасы давали им возможность в течение нескольких месяцев выдержать это осадное положение. Выходивших из таких домов и входивших в них тщательно окуривали и опрыскивали прокипяченным уксусом, настоянным на травах. В таком осадном положении жило и семейство князя Ивана Андреевича Прозоровского.
Единственный человек, выходивший из дома «по своим делам», был учитель племянников князя Сигизмунд Нарцисович Кржижановский. Он завоевал себе это право, пользуясь влиянием на князя Ивана Андреевича, и тот даже с некоторым благоговением смотрел на него, как на человека, рискующего своею жизнью для своего ближнего.
Сигизмунд Нарцисович сумел убедить старика, что его отлучки связаны с организованным будто бы им комитетом посильной помощи семействам умерших от чумы и он, как один из членов этого комитета, обязан рассматривать подаваемые письменные и выслушивать словесные просьбы.
— Смотрите только, берегите себя… Подумайте о нас— заметил князь Василий Андреевич.
— Помилуйте, ваше сиятельство, — отвечал Кржижановский, — прежде чем думать о себе, я, конечно, подумаю о вас, о моем друге и благодетеле, и о всем вашем, драгоценном для меня, семействе… Но опасности никакой быть не может… В комитете мы надеваем другое платье, там имеются всевозможные обеззараживающие средства, при уходе из дома и при входе я, кроме того, тщательно окуриваюсь… Подумайте, ваше сиятельство, если бы все схоронились в своих домах, что сталось бы с этими несчастными, они все бы были отданы исключительно в распоряжение мортусов. Нам удалось многих, ваше сиятельство, буквально вырвать из когтей этой страшной болезни, которая вместе и смерть… Для этого дела не грешно рискнуть и собою.
Сигизмунд Нарцисович все это произнес голосом, в котором слышались непритворные слезы.
— Вы благородный человек… У вас редкое сердце, Сигизмунд Нарцисович… — произнес также расстроенный князь Прозоровский.
Отлучки Кржижановского получили, таким образом, окраску геройских подвигов. Мы знаем цель этих отлучек и знаем, какого рода подвиги скрывались за ними.
Происшедший в Москве бунт был результатом любви к ближнему Кржижановского и компании. Этот бунт произошел так неожиданно быстро, мятежники, обагрив свои руки невинною кровью московского первопресвитера, также быстро были усмирены и переловлены, что, собственно говоря, были местности обширной Москвы, в которых даже не знали о происшедшем.
В доме князя Прозоровского весть о нем принес Сигизмунд Нарцисович. Он яркими красками описал возмущение народа, прибавив, что чуть сам не сделался жертвой разъяренной толпы, вздумав, было вразумить ее и остановить от дальнейших неистовств.
— Увы, мне не удалось, народ положительно обезумел… Я не дрогну, смотря в лицо смерти, но не хочу, и умереть бесполезно… Если бы я не удалился, толпа разорвала бы меня… Что мог я сделать один среди площади, наполненной бунтующей толпой?
— Вы герой, — почти с благоговением прошептал князь Прозоровский.
Это мнение о Сигизмунде Нарцисовиче как о рыцаре добра и чести и бесстрашном герое составилось, к несчастью, не у одного князя Ивана Андреевича.
В доме было два молоденьких существа, девственные души которых, чуткие к восприятию всего чудесного и героического, были увлечены этим их домашним рыцарем и молча, благоговели перед ним. Эти существа были княжна Варвара Ивановна и Капитолина Андреевна, или Капочка.
Подруги детства, они обе взапуски поглощали переводные романы в домашней библиотеке князя Ивана Андреевича и, настроив ими свое детски наивное воображение, искали идеала. Эти идеалы, однако, были у них различные.
Тогда как у княжны Варвары Ивановны образ ее друга князя Владимира Яковлевича Баратова положительно стушевался перед истинным рыцарем и героем, Сигизмундом Нарцисовичем, Капочка, отдавая последнему полную дань восторженного благоговения, все же своею мечтой останавливалась на князе Владимире Яковлевиче, который, казалось, специально был отлит в форму героя ее романа.
V. Молодой старик
По усмирении бунта Петр Дмитриевич Еропкин послал донесение императрице, испрашивая прощение за кровопролитие.
Государыня милостиво отнеслась к поступку Еропкина и наградила его андреевскою лентою через плечо, дала 20 000 рублей из кабинета и хотела пожаловать ему четыре тысячи душ крестьян, но он от последнего отказался, написав: «Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние имеем, к чему же нам набирать себе лишнее».