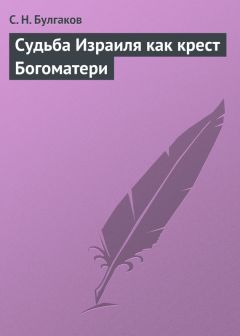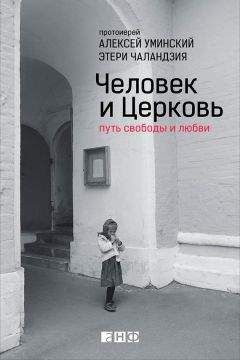Иван Супек - Еретик
– Сестра Фидес… хе, хе, мы ведь старые знакомцы, не обессудь! – не выдержал задетый за живое каноник Петр с деланным дружелюбием.
Монахиня, уже поставив ногу в белой туфельке на подножку кареты, едва повернула голову в сторону неловкого толстяка. Кровь бросилась в лицо вспыльчивому далматинцу, однако он пытался продолжать в том же полном почтительности тоне.
– Ты сердишься, за то что наш капитул высказался против твоего назначения настоятельницей к святой Марии? Знаешь… это дворянский совет тебя не пожелал… но я, знаешь…
– Знаю, – небрежно бросила женщина.
– Этот прокуратор, посланный Большим советом…
– …запер драгоценности мадонны, – не без удовольствия подсказала ему монахиня, – чтоб новая настоятельница их не украла.
– Да покарает господь бог сих клеветников! – растерянно произнес старый священник.
– Господь бог… – улыбнулась отвергнутая настоятельница, – ты хочешь, чтоб мне заплатило небо, старый сквалыга?
– Я очень сожалею об этом, сударыня, – продолжал лукавый каноник, надеясь попасть ей в тон.
– Сестра Фидес, мы молитвенно радуемся твоему возвышению здесь… – подошел иезуит.
– Да, святой отец. – Женщина надменно подняла голову, по-прежнему не снимая ноги с подножки великолепной кареты. – Да, именно возвышению!
Конечно, рассуждал про себя Матей, она так и осталась жалкой провинциалкой, желающей покуражиться над своими прежними хозяевами. Даже в круговороте ослепительной папской столицы все ее помыслы были связаны с далеким приморским городом. И теперь она мстила тем, кто над ней тогда издевался. Откровеннее других был потрясен иезуит, вынужденный смотреть на нее снизу вверх и созерцать у нее на груди золотой орден «Pro Ecclesia et Pontifice!».[47] Однако, подобно своему спутнику, он пытался сохранить должное приличие:
– Вспомни, сестра Фидес, ведь это мы воспитали тебя…
– И ты напоминаешь мне об этом, патер?
Ненависть исказила лицо белой монахини, но лишь на короткий миг, чтобы тут же исчезнуть под маской холодного презрения. И это красноречиво сказало о том, каковы были истинные чувства, которые она сейчас испытывала. Иезуит истязал ее, сам истязаемый жестоким обетом и подлой ревностью. И женщина ни о чем не забыла и ничего не простила:
– Да, вы неплохо подготовили меня к жизни в Риме, лицемеры, шпионы, воры! Пошел, пошел…
Осанистый кучер на высоком облучке щелкнул кнутом, выписав при атом в воздухе восьмерку и задев по щеке навязчивого пришельца. Вороные рванули, и изящная карета устремилась вперед. Униженные и отвергнутые сановные мужи прятали глаза друг от друга. Побагровевший каноник задыхался, судорожно проглатывая обиду, а потом отвел душу по-своему:
– Потаскуха архиепископская! Разбойница окаянная! Она б и мадонну обчистила, кабы не замки да засовы…
Брань, однако, не ослабила горечи оскорбления, и, охваченный яростью, он направился к молчаливым очевидцам происшедшего. Натер Игнаций подавленно следовал за ним, ощупывая рассеченную щеку, точно не доверяя своим пальцам.
– Ну, вот и вы на исходе своего позорного пути! – обратился к ним Иван, когда они подошли ближе.
– Заткнись, дерьмо собачье! – заревел каноник. – Это вы выставили нас на посмешище, отступники! И ваш примас поганый, чтоб его сгноили у святого Ангела!
– Он хотел возродить былое величие родины, а вы его предали! Предали чужеземцам…
– Архиепископ сам бежал на чужбину, – вмешался патер Игнаций.
– Да, бежал! – поддержал каноник. – А мы остались… Беглец… выродок! Бродячая собака!
– И вы его упрекаете, – едва смог выговорить Иван, – и вы еще толкуете о том, почему он бежал?
Бледный, с налитыми кровью глазами, он стоял лицом к лицу со своими сплитскими недругами. Матей сделал было шаг вперед, чтоб помешать ему броситься на них, но отступил. Он почувствовал себя бесконечно слабым перед этим олицетворением нечеловеческой фанатической ненависти. У него не было больше сил вторгаться в извечный конфликт между сирыми и власть имущими. В рваной и грязной рясе, лохматый и небритый, Иван и впрямь выглядел бродягой, раскормленный каноник с красной лентой вокруг брюха сумел найти точное слово. Бродячая собака! Как же иначе объяснить отъезд Доминиса из Сплита, если он сам, Иван, этому противился? Гнусный поп попал в самое чувствительное место.
Иван замер, потом стремглав вскочил на облучок стоящей рядом кареты, выхватил из чехла кнут и, спрыгнув на землю, кинулся к канонику.
– Хлыстом вас гнать из дворца Пилата, тебя, Иуда, продавший учителя Ватикану, и тебя, иезуитский соглядатай!
Он замахнулся на каноника Петра, который, тряся брюхом и путаясь в длинной сутане, пытался перехватить кнутовище. Размахивая руками и крича, подбежали кучер и патер Игнаций. Из дома выскочила многочисленная челядь; работники, подмастерья – все сплелось в один безумный клубок. И вдруг в окне верхнего этажа появилась фигура в кружевной ночной рубашке.
– Вышвырнуть вон эту сплитскую скотину! Во-о-он… – крикнул взбешенный кардинал, ибо это был он собственной персоной.
Вне себя вернулся Скалья в растерзанную после ночных услад постель и долго еще сквозь тяжкую дрему, заливавшую веки, слышал вопли, удары, стоны, ржание лошадей; потом все стихло.
X
Мучительный кошмар душил человека, раскинувшегося на широкой постели под брокатным балдахином. Он то погружался в тину жутких видений, утопая в мутных глубинах, то выныривал, судорожно хватаясь за воздух, и галлюцинации не оставляли его. Приходя в сознание, он видел перед собой галерею, соединявшую Ватикан и Замок святого Ангела. Взметнувшийся на аркадах мост связывал сон и явь, роскошное ложе под парчовой тканью вдруг становилось каменной скамьей в темнице у Тибра. Цепляясь за деревянное изголовье кровати, изнемогая от раскалывающей голову боли, человек пытался всползти куда-то вверх по смятым подушкам и никак не мог выбраться на берег забвения. По тайному переходу метались фигуры каких-то людей. Железные двери на противоположном его конце были разбиты, и все узники замка, нынешние и прежние, живые и мертвые, разом вышли на свободу. Длинная процессия растянулась по мосту, и впереди всех шагал бородатый гигант с раскрытой книгой в руках. Корчась на своем ложе, человек пытался приподняться, но тщетно! Невыносимая тяжесть свинцом наполняла его члены. А великан подступал все ближе и становился все громаднее. Он был ясно различим среди расплывающихся и одинаковых лиц. Да, это он! Марк Антоний…
Страшный мост видений обрушился. Задыхаясь, мокрый от пота, словно только что извлеченный из трясины, Скалья смотрел во тьму огромной спальни. Еще одна жуткая ночь! Как странно, что именно его, судью, преследуют кошмары, которые должны отягощать совесть заблудших верующих. Видения приходили все чаще и становились все более мучительными с тех пор, как он переселился сюда из монастырской кельи. Громадный дворец словно был заселен ночными призраками. И то, что днем удавалось подавить и оттолкнуть, ночью беспрепятственно врывалось в спальню. Разум скептика многое мог выдержать, но от этого шквала не было защиты. Фантомы появлялись вопреки папским канонам непогрешимости, окутанные облаком печали, неся с собой мучительное ощущение вины. В этих ночных встречах Скалья узнавал себя настоящего, каким он был воистину, вовсе не желавший судить сплитского реформатора, по людская подлость раскрывала перед ним бездну низостей и опасностей.
Он ворочался с боку на бок, безуспешно стараясь стряхнуть лоскутья видений; потом измученный поднялся с постели и подошел к распахнутому окну. Повсюду стояла тьма. Низкие облака, словно прессом, сдавили воздух, и было невыносимо душно и знойно. Раскаленная дневным солнцем котловина заполняла ночь своими испарениями, и легкие разрывались от недостатка свежего воздуха. В многообразии ароматов Скалья различал благоухание экзотических растений под окном, однако все подавлял запах его собственного, покрытого потом тела. Длинная кружевная рубашка прилипала к коже, точно одеяния сгинувших призраков, которые тем не менее словно продолжали прикасаться к нему, клейкие, потные, вонючие. Вид уснувшего сада не избавил его от ощущения гадливости. Духота мокрой тряпкой накрывала блуждающие мысли. И собственная мертвенно-белая плоть ужаснула его. А квадрат постели на массивных колонках, придавленный брокатным балдахином, показался ему катафалком, лечь на который снова у него не хватало сил. Обнаженный, необъяснимый ужас вновь и вновь заставлял его погружаться в полную угрозы тьму окружающих событий.
Пожар религиозных войн разгорался, и возрастала напряженность в отношениях между папой и генералом ордена иезуитов. Императору Фердинанду II удалось нанести удар остаткам гуситов при Белой Горе, однако сопротивление протестантов усиливалось по всей сожженной Германии до самой Фландрии и Балтийского моря. Обнищавший император вынужден был опираться лишь на воинское умение Валленштейна, но действия этого великого воителя папа Урбан VIII назвал обыкновенным разбоем, согласно информации Муция. Обстановку осложнял приход к власти кардинала Ришелье в качестве первого министра Франции, однако пикантность ситуации придавало то обстоятельство, что английский престолонаследник, потерпев фиаско в Мадриде, пытался породниться с французским королевским домом. Католический лагерь был встревожен, повсюду ожидали, судя по сведениям генерала, непременного вмешательства Рима, а первосвященник все это изволил называть лишь соперничеством между борющимися за власть династиями.