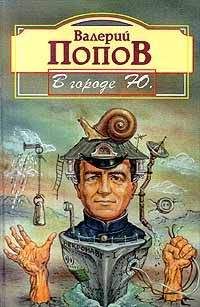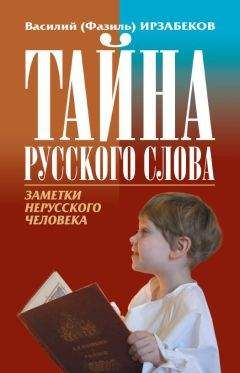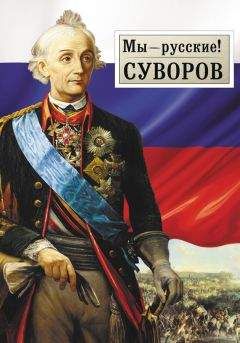Вячеслав Шишков - Странники
— «Рабы не мы, мы не рабы…» Написали?
— Есть, гражданин преподаватель! — выбрасывает руку чья-то рыжая, облезлая голова в очках.
Остальные, от шестидесятилетних стариков до голоусых юношей, потея, царапают карандашами по бумаге.
Старшая группа с тяжким сопеньем, вздохами решает трудную задачу на сложение.
* * *
Клуб устроен в домовой церкви бывшего тюремного замка. Здесь кипит живая культурная работа дома заключения, вмещающего в своих стенах не одну сотню лишенных свободы. Средина церкви отведена под зрительный зал. На крыльях, хорах, в закоулочках — ряд комнаток специального назначения. Самая обширная — кабинет заведующего учебно-воспитательной частью. Ему непосредственно подчинены: культкомиссия, редколлегия и совещание воспитателей. Далее идут библиотечный совет с читальнями по отделениям и красными уголками, художественный совет с театром, в театре — спектакли, лекции, концерты, киносеансы. Затем школьный совет с тремя школами. При культкомиссии же — совещание камерных уполномоченных, «культурников», по одному от камеры. А при совещании воспитателей — юридическое бюро, обслуживается юристом из заключенных.
При посредстве такого сложного аппарата делаются самые серьезные попытки переработать психику преступника, укрепить его волю, привить навыки полезной трудовой жизни, словом — из вредного, социально опасного человека создать полезного члена государственной семьи.
Театральный зал. Сейчас идет репетиция «Ревизора». Коротконогий толстяк, которому недавно и совершенно зря наклали по шее, обрел свою стихию. Он прекрасно играет Осипа. Участвующие покатываются со смеху. В перерыве, когда режиссер стучит палочкой на отдых, толстяк рассказывает:
— Однажды в Смоленске, на торжественном спектакле, в присутствии господина губернатора я вот так же играл Осипа. А накануне всю ночь провинтил в картишки. И можете себе представить, ложусь я на кровать, руки за голову. Открывается занавес, публика ждет от меня монолога, а я молчу. Можете себе представить — уснул как зарезанный, даже захрапел. И кто-то половой щеткой из-за кулис мне в рыло. Я вскочил, протер глаза. А в зале хохот. Его превосходительство встали и ушли… — Глазки толстяка покрылись масленым налетом; отвислые щеки дрожали от сдерживаемой улыбки.
— Ну-с, прошу! — крикнул режиссер. — По местам, по местам! Суфлер, подавай!.. Бобчинский и Добчинский, катитесь петушком… Сильней подчеркивайте классовое расслоение… Городничий! Елико возможно, впадай в кулацкий уклон. Еще раз напоминаю, что идеология Гоголя подмочена, имея в виду его переписку с друзьями. Поэтому всячески старайтесь в каждом жесте выпрямлять идеологическую линию… Итак… суфлер!
В зрительном зале в это время четверо парней малевали декорации. Засучив штаны и рукава, они ходили с длинными кистями и клали смелые мазки на полотно. С хор кричал главный их руководитель, маляр по профессии, вор-домушник Митька Клеш:
— Клади гуще! Печку, печку гуще оттеняй! Для рустика — тонкую кисть. Куда ты, корова, макаешь в сурик?! Синькой надо! Протяни карниз белым. Тьфу, черт… Ударь по душнику! Блик, блик положи! Постой, испортил… — И сломя голову он с хоров несется вниз.
Одна из самых оживленных комнатенок — это помещение редколлегии, где фабрикуются журнальчик «Возрождение» и стенная газета «Волчок». Она вся в криках, в шорохе бумаги, в лязге работающих ножниц, в густой сизой завесе махорочного дыма: дым ест до слез глаза, мешает дышать, но литераторы-лишенцы этого не замечают. Самый молодой из них — редактор. Ему едва минуло двадцать лет. У него мужественное бледное лицо, длинные волосы. Голос у него громок, жесты широки, он похож на провинциального поэта. Звать его: товарищ Ровный. Совершенно одинокий, не знавший отца, брошенный поломойкой-матерью, он с малых лет путался в беспризорниках, потом стал на дорогу, поступил рабочим на завод» сделался комсомольцем. Но, не обладая твердой волей, подпал под влияние хулиганствующей шатии и был уличен в попытках добиться любви одной из девушек путем насилия. Все прошедшее кажется ему теперь, на расстоянии, каким-то туманным кошмаром. Он полон внутреннего раскаяния и заглаживает свою вину безупречной работой в доме заключения.
Пристукивая ладонью в стол, он глядит сквозь дымовую завесу в лукавые глаза маленького толстоголового человека, стоящего по ту сторону стола, и под шумный галдеж ведет с ним нажимистый, твердый разговор.
— Я на вас, дорогой товарищ, — говорит он, — в большой обиде.
— А чем же я вас, товарищ, затронул? — лукавя глазами, спрашивает толстоголовый, и взнузданный рот его кривится серпиком, концами вверх.
— А кто заметку обещал и не пишет? Кто сознательного из себя корчит, а между прочим только и знай, что в домино дуется? Это вы, товарищ дорогой.
— А где тема? — улыбчиво вопрошает лукавый. — Искал, искал, найти не могу. Не все же писать, что из книг игральные карты делают, а от мата на ушах мозоли нарастают… Надоело.
— Как, тем нет? — И редактор запускает в свои длинные волосы измаранные в клейстере и чернилах пальцы. — Да я вам, товарищ Джим, сразу десяток тем найду. Например, какой момент сейчас переживает СССР?..
Джим отступил на маленький шажок и крикнул, ударив себя в сердце:
— Товарищ редактор! Вы, видно, за мальчика меня считаете? Я, может, сам кровь на гражданских фронтах проливал… Не все же я в исправдомах сидел. А…
— Успокойтесь, успокойтесь! — старался перекричать его редактор, стуча ладонью по столешнице. — Значит, вы согласны, что теперь требуется наибольшая выдержанность, спайка с пролетариатом? А кто является вождем революции во всем мире?
— Большевики. Ясно.
— А кто является рупором революции?
— Советская печать.
— А много ли наш дом заключения выписывает газет? На семьсот человек мы выписываем двадцать газет всего. По две газеты на камеру… Позор!
— Я вас понял, — сказал Джим. — Дайте, товарищ Ровный, лист бумаги. Через час фельетон будет готов. Тренькает звонок внутреннего телефона.
— Ало, ало!.. Да, да, редактор. Это стеклография? Сейчас… — И, обращаясь в дым, кричит: — Самоглотов! Мишка!..
— Есть Мишка! Чего тебе?
— Сколько полос в газете?
— Двенадцать…
— Ало! Слушаете?.. Двенадцать полос… А журнал готов? Сто экземпляров… Я сейчас приду. И еще крики:
— У кого гуммиарабик?
— Ищи!..
— Что вы, черти, с булкой, что ли, сожрали его?..
— Тише, тише! Ша!.. Товарищ Махнев, читай… Юркий, черненький, сухолицый поэт чахоточно откашлялся и заскрипел сверчком:
СОВЕТСКИЙ ИСПРАВДОМ
Не так давно то время было.
Читал про наш я исправдом,
Но скоро мне судьба сулила
Изведать все порядки в нем.
Там гражданин, лишась свободы,
Найдет себе любимый труд,
Забудет прошлые невзгоды,
Найдет, где сердцем отдохнуть.
Не то, что было при царизме:
Никто не носит кандалов.
Здесь выпускают для отчизны
Уже исправленных сынов.
Ни разу жалеть не приходилось,
Что в исправдоме нахожусь,
Но даже рад, что так случилось:
Я здесь с любовию тружусь!!
— Глупо!.. Неосновательно, — кто-то прервал его из дымовой завесы, — Ты прямо-таки заманиваешь граждан в исправдом: пожалуйте, мол, у нас много лучше, чем на воле. Где идеология, где смысл? Надо больше соли, самокритики… Да и рифма… Нет, не пойдет…
— Товарищи! Прекратите куренье!.. Откройте окно и — на пять минут в зал…
Из морозной мглы хлынул поток свежего воздуха. Выводной отпер дверь, и под его надзором лишенцы-литераторы все вышли из коптилки в зрительный зал, где работают актеры.
Репетиция не клеится. Режиссер, товарищ Полумясов, желчный, морщинистый, с черными накрашенными усами, отбывает наказание за службу в царской охранке. Он в свое время немало играл в любительских губернских спектаклях, человек опытный, требовательный, нервный. А тут, как на грех, пожелал участвовать в спектакле сам помощник начальника дома, артист никудышный, неповоротливый, как книжный шкаф, и торопливый в слове. Он играл Тяпкина-Ляпкина, судью.
— Не так, гражданин начальник, не так, — обрывал его вспотевший длинноногий, как страус, Полумясов. — Я ведь вам говорил, что при словах: «Да, нехорошее дело заварилось», — вы должны перейти сюда, на авансцену. И, ради бога, не показывайте спину публике.
Начальник кой-как поправлялся. Но режиссер опять учил его:
— Больше жизни! Что вы делаете с руками?..
Начальник дулся, но старался сдерживаться. Наконец нервы режиссера лопнули, он закричал начальнику:
— Да повернитесь же к публике лицом, а не задом! Не глотайте слов. Говорите раздельно!.. Ведь это же не игра, а черт знает что…