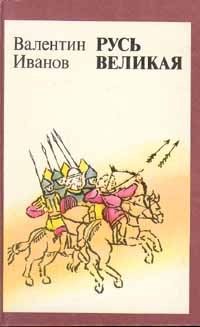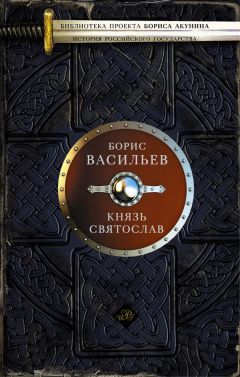Валентин Костылев - Иван Грозный
Грязной опять наполнил вином кубок и разом опорожнил его.
– Бог правду видит, Васюшко... – скорбно воззрившись на икону, заныла Феоктиста. – Не кручинься! Не надо кручиниться...
Глаза Грязного стали злыми. Сверкнули белки.
– Не бреши! – стукнул он кулаком по столу. – Да нешто я кручинюсь? Чего мне кручиниться? Радуюсь я! Дуреха! Войне радуюсь! Вельможи хрюкают, сопят, ровно опоенные свиньи, а мы – нас много, больше бояр нас! – мы ликуем. Никита Романович Одоевский хуть и князь, а нашу сторону принял. Его тоже изобидели и в черном теле томят. Он слышал, будто государь сказал, что многие от этой войны славу приобретут и земли, и думное звание... Поняла? Обожди! И ты у меня в боярских колымагах кататься удосужишься, и тебе люди до земли учнут кланяться! Чего же мне кручиниться? Подумай!
Феоктиста уж и не рада была, что посочувствовала мужу. Такой он стал обидчивый. Прежде того не было. И гордость какая-то у него появилась – даже перед женой. И все говорит о боярах, о царских делах, о дворянах и о посольских приемах, а прежде, бывало, домом занимался, избяные порядки наводил, – с плотниками да кирпичниками все советуется о квашнях, о корытах, о ситах, бочонках для продовольствия заботится или охотой да рыбной ловлей потешается да крепостных мужиков на конюшне наказывает. Всегда у него находилось домашнее дело. Теперь целые дни, а иногда и ночи пропадает невесть где, на стороне. Сваливает то на дворец, то на Пушечный двор, то на Разрядный приказ либо на тайные государевы дела. А бывает и так, что придет в полночь с ватагою дворян, своих друзей, хмельной и до утра бражничает, девок заставляет дворовых угождать. Срам и грех! Прежде никогда того не было.
Грязной выпил еще и еще вина. Его глаза разгорелись хмельным озорством.
– Человече, не гляди на жену многоохотно! – провозгласил он, будто поп на клиросе. – И на девицу красноличную не взирай с истомой, да не впадешь нагло в грех...
Феоктиста, испросив у мужа разрешения, встала из-за стола и сбегала в девичью. Велела Аксютке, Феклушке, Катюшке и Марфушке удалиться в соседний дом сестры Антониды Ивановны. (Раз о «грехе» заговорил – стало быть, надо девок угонять).
Когда Феоктиста вернулась в горницу и села за стол, Грязной низким голосом затянут песню:
Женское дело перелистивое,
Перелистивое, перепадчивое,
В огонь и жену одинаково пасть...
Кудри его растрепались. Шелковый пояс на рубашке он распустил, напевая такие песни, что Феоктиста Ивановна слушала, краснела и отплевывалась. Раньше он не знал таких песен и был тише, смиреннее.
Накричавшись вдосталь, он насупился, шумно поднялся с места и гаркнул голосом грубым, властным:
– Жена! Иль я тебя давно не стегал? Иль ты думаешь – ослаб я? Пошто ты не велела подать мне коня? Не видишь разве, разгуляться захотелось добру молодцу? Поеду к Гришке, к брату единокровному, на обыск ночной... Ловить будем беглых и бездомных, может, и знатная рыбешка попадет... Гришку сам царь «объезжим головою» поставил. Пошарим в сокольничьих перелесках, угодим царю... Не рука мне тут с бабами сидеть! Айда! Кличь конюха!
Феоктиста Ивановна попробовала уговаривать мужа не ездить в такую позднюю пору, посидеть дома, как бы лихие люди не учинили какого-нибудь злодейства ему, Грязному. Ничего не помогло.
Ругаясь и ворча на конюха и дворовых мужиков, топая сапогами, сел он при свете фонарей на коня и скрылся во мраке.
Аксютка, Феклушка, Катюшка и Марфушка снова вернулись в дом, дрожащие от страха и холода (убежали на соседний двор налегке). Плакать им не полагалось, это прикажет хозяйка. Молиться на хозяйские иконы им тоже Грязным строго-настрого было запрещено. В людской, у «подлых людей», есть свои иконы, на которые ни хозяин, ни хозяйка тоже никогда не молятся. Забились девки в угол, в запечье, ни живы, ни мертвы.
Феоктиста Ивановна, накинув шубку, вышла на крыльцо. В безветренном воздухе медленно падали крупные хлопья снега. Выли собаки где-то над Сивцевым Вражком; послышался отдаленный выстрел со стороны Кремля... Кругом мрак, костяки оголенных деревьев и снег, громадные сугробы, завалившие сараи, амбары, хлева...
Скучно, страшно! Что-то будет?
* * *В доме князя Владимира Андреевича собрался кружок его близких людей. Из Литвы через рубежи пробрался чернец-униат с поклоном от князя Ростовского и от других отъехавших в Литву русских вельмож. Лопата-Ростовский уведомлял, чтобы не мешали царю Ивану углубляться в Ливонию. Вместе с литовскими и польскими друзьями он уже вошел в сговор с королевским правительством, которое полностью на стороне бояр, и сам король благославляет боярскую партию в Литве на упорную борьбу с московским царем. Он не советует Боярской думе мешать царю. Пускай оголяет южные границы. Хотя атаман Дмитрий Вишневецкий и откололся от Польши, перейдя на службу к царю, однако он ненадежен. Он уже теперь поговаривает, что не намерен один воевать с крымцами. Пускай царь понапрасну надеется на казаков, приведенных им, Вишневецким, из Польши. Сначала Девлет-Гирей думал, что полки Ржевского, Вишневецкого и черкесов лишь передовой отряд Иванова войска, а теперь из Польши ему дано знать, что «все тут» и что главные силы царского войска ушли к ливонскому рубежу.
Чернец был худущий, запуганный, весь в угрях от долгого немытия, когти черные, длинные, как у зверя, и говорил заикаясь, – сразу не разберешь, что он хочет сказать. Поэтому обступившие его бояре, потные, грузные, тяжело дыша, с нетерпением ловили каждое его слово.
– Сталыть... – тянул чернец, путая польские слова с русскими, – степь голая... безлюдная назаду у Раевского и Визневицкого... князь Лопата... увидомляет...
Наконец-то бояре поняли, что польский король, по совету отъехавших московских вельмож, намерен поднять Девлета – крымского хана – против русских войск, ушедших далеко в степь и в надежде на царскую военную помощь осадивших и взявших город Хортицу у днепровского устья. Нет нужды, что Вишневецкий побил в этом месте крымцев и сжег Ислам Кирмень, – все одно ему там не удержаться без помощи Москвы. Вишневецкий – храбрый казак, но и похвастать любит, и обмануть кого хочешь может. Ненадежный он слуга московскому царю.
Скоро «покоритель царств» потерпит такой урон от крымского хана, какого не видела Москва за все свое существование. Князь Лопата-Ростовский и все его товарищи клянутся в этом своим московским друзьям. Они советуют им быть наготове и перевезти своих детей и жен подальше от Москвы, чтобы не было им от той беды несчастья.
Униат поклялся перед иконами, что все сказанное им – истинная правда и что через трое суток он снова уйдет в Литву, а потому и просит доброго князя Старицкого и бояр шепнуть ему слово для передачи зарубежным боярам.
Владимир Андреевич посоветовался с матерью своею, княгиней Евфросинией. Он желчно произнесла: «Хотим власти, как в Польше. Скажем спасибо братьям-боярам и королю, коли тому помогут!» Бояре сочувственно поддакнули княгине, ибо каждому из них был по душе боярский порядок польского правления. Польская рада не облекает такою властью короля, какая захвачена в России царем Иваном.
После тайной беседы с чернецом все усердно помолились. Ах, как хотелось в душе каждому из бояр, чтоб Девлет-Гирей «проучил Иванушку-царя», нарушившего все древние уставы, препятствуя князьям быть самовластными правителями. Если бы даже сатана предложил свои услуги боярам против самодержца-гордеца, похитителя княжеской власти, то и с ним бы вошли в союз истомившиеся в жажде мщения, оскорбленные царем друзья Старицкого князя Владимира Андреевича.
Через трое суток бояре устроили тайный побег униата из Москвы в Литву.
* * *Как ручейки из большой лужи, так из дома князя Владимира Андреевича поползли по боярским и преданным князю Старицкому служилым домам вести, кои принес с собою литовский чернец.
Московская боярская партия собралась у незнатного приказного служки в маленьком домике Сущевской слободы Федора Сатина. Человек он был незаметный: Адашев не любил ставить на первые места своих родственников, но и родственники его старались оставаться в тени, служа добросовестно в приказах дьяками и на иных приказных должностях. Царь ценил это в Алексее Адашеве и сам нередко одаривал и деньгами и подарками адашевских родичей, таких, как Иван Шишкин или тесть Адашева Петр Туров. Не забыты были денежно и самим Алексеем все эти Андреи, Федоры, Алексеи Сатины, Туровы, Шишкины, Петровы и прочие, а их было немало. Никто из них в вельможи не лез и не хотел быть на виду, кроме братьев Алексея – Данилы и Федора, выдвинутых за боевое усердие на высокие посты самим царем Иваном.
Здесь-то, в доме Сатина, и сошлись для тайного сговора люди московского боярства: боярин Челяднин, Казаринов с сыном, десять Колычевых (в том числе и Никита Борисыч), явился и сам Иван Васильевич Большой Шереметев, обладавший несметными богатствами. В одежде монаха пожаловал он к незнатному дьяку Сатину в гости, а с ним и горячий сторонник Польши Никита Шереметев. Тут же оказались Разладин и Пушкины, родственники Челядниных и близкие к колычевскому роду вельможи.