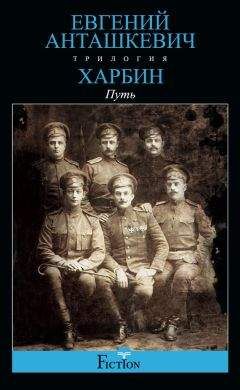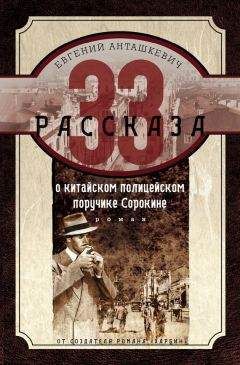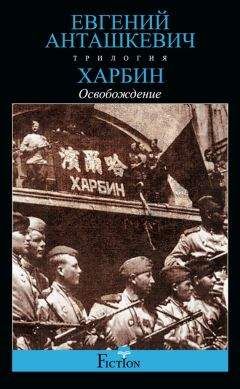Сергей Бородин - Дмитрий Донской
Князь повернул коня по узким улицам. Встречные жались к стенам, кланяясь ему, дивясь ему, чтя его, но он смотрел вперед на частые повороты улицы, на красные карнизы над серым дубом строений, кое-где, за заборами резные столбы крылец, кое-где чешуйчатые острия церквей и размалеванные верха теремов. Резко из-за стен вспыхивали осенняя листва да черные ветви уже оголенных берез. Изредка вскидывалась воронья стая и уносилась прочь с граем и шелестом.
Дружно поднял Олег свой город из пепла. Едва минуло пять лет, а уже потемнели дубовые рязанские стены; кому было строиться, построились разом, никто не хотел отстать. Только из слобод еще доносились стуки топоров да возгласы плотников. Да и там торопились достроиться до холодов. Снова стоит город, словно и не было беды. Много на Рязань легло дубов, безотказно давал их Олег своему городу, поредели рощи по-над Трубежом и по Оке-реке. Теперь вся дубовая стоит Рязань.
«Крепка! — помыслил Олег. — Дуб год от года крепче становится».
А спутники, едучи позади, скинули на седла дорожные армяки и чванились дорогими кафтанами перед сотнями глаз, отовсюду — из домов, из щелей, из ворот — провожающих Олега. Когда он въехал на княжой двор, его удивило, что челядь толпится у крыльца. Быстрый глаз тотчас приметил потную, грязную лошадь без седла с татарским тавром на крупе.
«Чей степняк?» — но не спросил: негоже домой вступать с вопросом, будто чужому. Еще отроки не ухватили повод коня, а Олег уже сошел, осторожно ступая на больную ногу. Шестой год рана не заживает, а великому князю не честь хромать. Чтоб не хромать перед народом, норовил с коня сходить у самого крыльца, а в седло вскакивал сразу с порога. Руку б ссекли, не столь бы горевал — шрам на лице, рука ли, ссохшаяся от раны, украшают воина. Нога — не то, князю надлежит проходить между людьми гордо, легко: не к лицу великому князю прыгать, как воробью. Чтобы сгладить свою поступь, Олег, шагая, выпрямлял грудь, высоко вскидывал плечи и не видел, что хромота его от этого усугублялась в глазах людей. Часто приходила досадная мысль:
«Вон Дмитрий из битв невредим выходит».
Однажды боярин Кобяк подольстился:
— А мнится мне, княже, Дмитрий-то трусоват: в походы ходит, а ран не имеет.
Но сам-то Олег знал: Дмитрий не бережется. Оттого и сам всегда в сечу лез, опасался, не дошло б до Дмитрия, что Рязанский, мол, Олег оробел. А небось рад бы Дмитрий сказать: «Князь Ольг робок».
— Нет, Дмитрий Иванович, не дам тебе сих слов молвить!
Молча Олег вошел в сень терема.
— В гридне, княже, гонец ждет.
— Чей?
— Ордынской.
— Пущай. Сперва омоюсь.
— Бает: весть велика.
— С Орды-то? Обождет!
Отрок лил князю воду из ордынского медного кувшина, и вода будто пела, струясь в чеканную лохань, касанье струи о медь рождало звон, похожий на дальнюю песню. Хотелось ее слушать, не расставаясь с теплой струей.
Раздумывая, утирался холщовым рушником: чего может быть с Орды? Побита, опозорена — не скоро ее голос заговорит русским ушам, да и заговорит ли? Не пожелают ли отныне жить с нами в ладу, проложить твердый рубеж, каков был встарь с половчанами? Не о том ли и весть? Едут, мол, дружбы твоей искать. Вот и выйдет, что чужими руками Рязань ордынский жар загребает. На Москву злы, а с Рязанью сдружиться вздумают.
Он сел на широкой скамье, покрытой черным ковром, и рукой, изукрашенной перстнями, разгладил влажные волосы. В дверь всунулась голова Софрония, княжеского духовника:
— Дозволь, княже.
— Вступи.
Софроний был и умен, и скрытен, а от скрытности казался пуще того умен. Вокруг люди сказывали свои думы открыто, мыслили вслух, и многие Софрония не любили: поп, а голова гола, голос сипл. Но ученость подняла Софрония, и зеленый, кошачий глаз косился на Олега, пока сперва образам, а после князю воздавал он честь.
— Ну, отче? — спросил Олег.
— Человек с Орды.
Чего весь дом его торопит? Ниже ли Рязань Орды? Но, уступая Софрониеву слову, Олег послал отрока:
— Кличь!
Оказалось, что гонец уже ждал за дверью; он перешагнул через высокий порог и стал у двери.
Гонец торопливо перекрестился и поклонился князю. Стоял худ, бел. Одежина испылилась, волосы сбились космами. На белом лице лишь рот пылал и язык жадно облизывал воспаленные губы.
— Что у тебя?
Давно рвавшийся к великому князю через ветры и степи, через тишину и мрак лесов гонец едва раскрыл рот, вдруг задохнулся, словно только что добежал. Покраснел, и только губы без голоса выговорили:
— Батюшка государь…
И слова срывались, застревали, присвистывали, то вдруг вскрикивали, то шептали, пока он сообщил наконец о выступлении в поход всех сил Мамая.
— За обиду карать! — выкрикнул напоследок гонец.
— Да на Москву ведь! — возразил Олег.
— За русскую обиду, господине! — настаивал гонец.
— Рязань обиды им не чинила… — Олег быстро вдруг перебил себя самого: — А Москве о том вестимо ли?
— Одна весть — тебе.
— Кто тебя шлет-то?
— Весть тую на русской двор полоняник Клим донес, Мамаев холоп. От самого Мамая слыхал. А мы сборы зрили.
— Кого же сбирать Мамаю-то?
— Наскреб великое войско.
— Да то ведь поскребыши.
— А тысячев шестьдесят будет. А то и того поболе.
— Ты-то сам кто?
— Твой конник. В Сарае иноческий сан соблюдал для отвода глаз.
— Ну, вели баню согреть. Мойся.
Гонец ушел. Злая радость уже подступала к Олегову сердцу. Вот оно! В Москве не ждут, пируют победу, еще вожский хмель по головам бродит, а уж срублен гроб, что поставит Москва на стол заместо нонешних яств и празднеств.
Князь обернулся к Софронию:
— Вот оно, как побеждать Орду.
— В Москву бы слать надо! — осторожно посоветовал поп.
Олег отвел от него глаза; эти все к Москве гнут, и Евфросинья заодно с ними. Олег быстро отмолвился:
— Сперва помыслить надо: Москве сослужим, а перед Ордой с чем встанем? Свои все в разъезде: урожай сгребают по вотчинам, а московской-то заступы мы не видывали.
— В Москве земля русская! — сказал Софроний. — Гонца можно слать туда, никто о том не сведает.
— А коли тайное да станет явно?
— То от нас.
— То и от гонца. Да и от Дмитрия.
— У гонца — язык короток. А у Дмитрия — ум долог.
Вошел отрок:
— Гонцу где отнонь быть, господине?
— Пущай в дружину идет. Скажет: я послал.
Чуть ссутулясь, Олег встал. Софроний рассеянно следовал за ним.
Прежде чем выйти в сени, Олег ответил:
— Не решаю, отче. Сперва размышлять буду.
И, прихрамывая, пошел к лестнице.
Вот оно! Сломлена голова Орды, а раненый зверь, издыхая, тщится придушить ловца. Оба задохнутся! Тогда встанет Рязань на шеломе всей земли Русской! О нет, он не пошлет гонца в Москву! Пущай Дмитрий пирует, сладка смерть за медовой чашей.
Вверху, против лестницы, Олег увидел лампаду, пылающую перед Нерукотворным Спасом.
Олег уже ступил на нижнюю ступень лестницы, но остановился, запрокинув к иконе голову:
— Благослови мя, боже, мню: волей твоей сотворено сие. Не дерзну стать супротив тя — не вырву чашу у раба твоего князя Дмитрия, не отведу его от карающей десницы твоей, не вложу меч заместо чаши в руку его.
И набожно перекрестился.
Софроний немного постоял, видя, как Олег легко поднялся наверх к Евфросинье, и быстро пошел с великокняжеского двора.
Двадцать третья глава
ДМИТРИЙ
Когда отгремели московские колокола и растаяли ладанные дымы молебнов, когда затихли пиры, отпраздновавшие победу на Воже, когда иссякли вдовьи слезы и приутихли материнские плачи, только тогда тяжесть свалилась с плеч Дмитрия.
Он встал еще затемно. Тихо ложился снег. Слабо брезжило утро. Одеваясь, послал отрока, молодого княжича Белозерского, на двор:
— Пусть коня подведут. Да чтоб скоро.
В это свежее, снежное утро Дмитрию захотелось прогуляться по московским слободам. Он вспомнил: ехали в Сетунь, на охоту, и за тыном у балуя пела девушка-рязанка про злых татаровей. Вот встретить бы ее сейчас, приласкать, сказать: отомстили татарам за все ее страдания…
Едва звякнула цепь у крыльца, Дмитрий был уже на дворе. Отрок, приминая зелеными сапожками молодой снег, стоял в красном полушубке и в лисьей шапке, поглаживая шею горячего каракового коня.
— Сполнено, государь.
Дмитрий постоял, радуясь свежему запаху снега. На нем был полушубок с беличьей выпушкой, и только короткий меч на красном ремне изобличал в нем воина. Сказал отроку:
— Сбегай за конем себе.
А сам приподнялся на стременах, заправил под себя полы и слегка поиграл конем, рванул, осадил, чтоб чувствовал над собой руку.
Вдвоем с отроком они проскакали через расступившихся воинов, выехали на Москву, поскакали слободами, малолюдной дорогой, к Валуевой вотчине. Из-под конских копыт вырывались тяжелые комья снега, взметались с деревьев вспугнутые стаи ворон, кое-где женщины в ярких шалях пугливо запахивали за собой калитки или взбегали на высокие крыльца — от воинов всякого можно ждать.